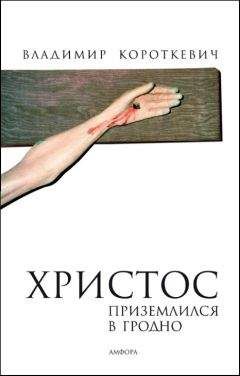Владимир Короткевич - Христос приземлился в Гродно. Евангелие от Иуды
Но он был выносливым и цепким, как держидерево на скале. И потому не закричал, а впервые за всё время улыбнулся. И тут открылись зубы такой ослепительной белизны, что бургомистр Устин улыбнулся в ответ.
— Приятно слышать, что вы побывали в таком путешествии, — сказал иезуиту Раввуни. — Сколько вы ехали оттуда?
— Два месяца.
— Ну вот. А мне для этого потребовалось почти два века. Можете-таки мне поверить.
— У меня в Испании был один друг, — улыбнулся Босяцкий.
— Только один? — неожиданно для самого себя спросил Богдан Роскаш.
— Он один стоил тысяч. — И монах опять улыбнулся, ибо вспомнил советы этого друга насчёт народа белорусской земли, который погряз в язычестве, доселе держит идолов и слово, и более, чем в Христа, верует в Матерь Божью[64] (хотя всем известно, что её единственной заслугой было рождение Богочеловека), и весь засорён ересью. Вспомнил он и другие советы великого друга. Советы насчёт тех, кому по нехватке усердия в Божьем деле и заботы о Его величии дали здесь пристанище. Вспомнил он и советы о ведьмах и колдунах.
И оттого, что всему этому осталось недолго жить, и потому, что вот этих уже завтра возведут на костёр, капеллану стало гораздо легче, и он улыбнулся ещё. На этот раз иудею, Роскашу и Юрасю.
— Этот друг говорил мне, что когда еретики, наподобие этого школяра, пустили таких, как ты, сюда, над головами пришельцев кружились совы.
Раввуни также понимал, что завтрашнего пламени не миновать.
— Навряд ли. Никто не разводит сов. Мы — тоже.
— Это неправда, монах, — вставил Братчик. — Я знаю. Человек, бывший при том, всё записал. Я читал его записи. Это правдивая книга. Книга жизни. Больше никто не написал бы так.
Иудей снова улыбнулся белозубой улыбкой. Рыцарь Иисуса посмотрел на него и вдруг спросил:
— Это правда, что вы переняли у древних иберов[65] гадкий и противный Богу обычай полоскать свои зубы мочой и поэтому — вот хотя бы у тебя — они такие белые?
— У меня они тоже белые, — встрял Братчик. — И у многих тут, кто здоров.
Но его никто не слушал.
— Ну? — спросил доминиканец.
— Откуда это известно? — ответил вопросом Иосия.
— Катулл, хоть и поганцем был и книги его жгут, донёс до нас эту весть: «Чем хвалишься, отродие заячье, кельтибер грязный, может, оскалом зубов, что мочою ты моешь?». И ещё: «И кто из кельтиберов всех белозубей, тот, значит, хлебал и мочу усерднее всех».
— Это мерзко, — вдруг не выдержал Устин.
— Известно, мерзко, — согласился Жаба.
— Это омерзительно, — повторил Устин.
— Ну? — спросил Флориан.
— Возможно, — кивнул Раввуни. — Я вот всё время смотрю на вас. У вас зубы ещё белее моих... И вы были в Испании.
По залу прокатился короткий смешок. И смолк. И только тут всем бросилось в глаза, что у монаха действительно зубы белые и острые, как у собаки. Никто раньше этого не замечал, потому что он всегда улыбался одними губами.
— Это отвратительно, наконец, — повысил голос Устин. — Я запрещаю это. Пусть огонь, но не плюйте на кострище. Зверь разрывает врага на куски, но не бесчестит его. И чего стоит воин, который занимается тем, что позорит и срамит противника? Что бы вы сказали о битве, где обе стороны вместо того, чтобы драться, возводят друг на друга поклёпы?
— Вы что? — искренне изумился монах.
— Мне надоело. Я христианин и, как христианин, забочусь о вере и также не люблю людей, распявших моего Бога. Но то, что вы говорите, — клевета. Этот ваш писака, во-первых, не видел ни одного иудея. Он просто охаивал счастливого соперника в любви. Не знаю, хлебали ли кельтиберы мочу, — пусть это будет на его совести. Если это не так, он просто лжец, как и все писаки. А вы хуже него. Вы — клеветник. В то время во всей Иберии не было ни одного иудея. Никто не потребует, чтобы две армии клеветали друг на друга. Их дело — драться... Говори дальше, иудей.
Суровое, несмотря на развращённость, иссеченное шрамами, меченное всеми пороками лицо Устина было в этот миг страшным. Из-под стриженных в скобку волос углями горели глаза. И внезапно из него словно выпустили воздух. Он сел и безнадёжно махнул рукой:
— А-а, чего там! Всё равно.
С этой минуты бургомистр словно завял и до самого конца уже не проявлял никакого интереса к происходящему в зале.
Босяцкий непонимающе взглянул на Лотра. Тот пожал плечами — ничего, мол, глупости, бывает — и покрутил пальцем у виска.
— Так за что же тебя изгнали? — спросил Лотр.
— Странный вопрос. За что изгоняют людей? За то же, за что и его, Братчика.
— Расскажи поподробнее.
Рассказ Иосии бен Раввуни.
— Гм, моё дело началось два года тому назад, на еврейский праздник Рабигул Ахир. Именно тогда я начал понемногу понимать все книги. И как раз тогда в общине появился откупщик Шамоэл. Видели бы вы его глаза. Это был... Ну... Мне не хватает слов... Ну, волк... Ну, Олоферн... Ну, Сенахирим... Он был для иудеев страшнее всех самых страшных врагов. И не было воли Божьей, чтоб он издох, как... ассириянин... Начался ад... Общинный сбор вырос, и нам не на что стало жить, и весь он попал в эти руки. Видели бы вы эти руки! Жирные, в шерсти, все в бранзалетах... И с ним была треть общины, а остальные не имели ни кусочка солёной рыбы. Он разорил и всё вокруг, нечистый пёс. Он и его люди богатели. И если раньше я думал, проходя мимо могилок, что здесь лежат самые лучшие гои, то теперь я понял, что враг — он, ибо он точит... изнутри... Ибо он филистимлянин... Ибо он враг иудею и вообще человеку. Как вы. Мне надо было бы молчать, но глупый Иосия не молчал, и вот его изгнали, и он был вне закона для своих и чужим, подозрительным для прочих... Мне надо было бы молчать. Но я встал и начал кричать на него, и бесчестить... и обличать его, как Иеремия... Горе мне! Первый раз я кричал на него в прошлом июле на пост в память о разрушении Храма. Я кричал, что таких, как он, не должна носить земля, что он — покивание головой для прочих. А он и его блюдолизы смеялись. А наш раввин наказал меня.
Иосия ещё немного выпрямился. И тут всем стало ясно, что в этом хилом теле горит могучий дух древних предков. Горит даже вопреки трусости. Руки эти не могли ударить, но нельзя было погасить это пламя.
— И потом я обличал его на Хамишо. Я плевал в его сторону и говорил, что он грабит своих. Я плевал в его сторону, а они все плевали в мою. И мне бы... молчать... Но я забыл судьбу пророков и то, что их всегда побивали каменьями. И я обличал его на пост Хедали и кричал, что Израиль стал рабом и сделался добычей этой чумы и его, Шамоэла, нужно побить камнями, ибо мужики из-за него нарекают на нас и край этот может сделаться для нас страной тьмы. И раввин наложил на меня покаяние. А те бесчестили меня, а другие нарекали на меня, хотя не имели кусочка хлеба... И потом я, думая, что пробудится стыд у народа моего, обличал Шамоэла на первые дни... Кущей. Я говорил, что у него лоб блудницы и он опоганил... землю и что он уничтожитель народа... А он сидел и звенел бранзалетами на жирных руках, и на меня наложили второе покаяние, и ругали меня, а бедные от меня отступились... Паршивые овечки! Трусливые животные!.. А я читал книги и понимал, что так не должно быть, а раз есть, то книги лгут, а раз книги лгут, то зачем они? И не может слово правды не дойти, хотя... до сих пор после каждого слова правды он с удвоенной жадностью жрал людей. И я обличал его на пост Эстер и на Пурим. И я кричал, что поразят его лев и барс, а он сказал, что они тут не водятся. И я кричал на него и всех, кто с ним, что они, как откормленные кони, ржут на жену другого, и это было правдой. И кричал, что все они погубители Израиля и что из-за них кара падёт на всех. И кричал я, что раввин — осёл и птицелов неудачливый и переступил всяческую меру во зле, как и все они, и что дома их полны обмана и потому сами они такие тучные и жирные и справедливому делу бедняков не дают суда. И не стыдятся они, и не краснеют, делая гадости. И кадят Ваалу, который есть деньги... И они хотели побить меня камнями, а народ разводил руками и плевался. Горе мне, мама моя, что ты родила меня человеком!.. Никому не давал я в рост, и мне никто не давал в рост, а все проклинают меня! И перед самым Песахом они отлучили меня от общины и выбросили из кагала. Но я... не хотел уходить и говорил, что уходить нужно им, ибо все они — пастыри, губящие овечек своих, сосуды непотребные. И тогда они выбросили меня, и бедные не заступились за меня... И теперь каждый мог убить меня и не отвечать.