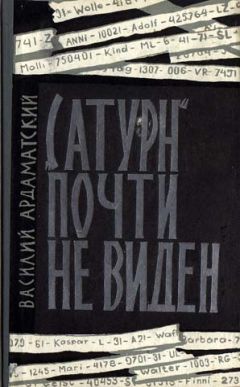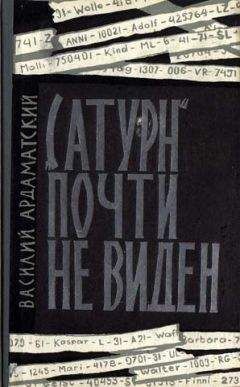Иван Бунин - Сверчок

Обзор книги Иван Бунин - Сверчок
Бунин Иван Алексеевич
Сверчок
И. А. Бунин
Сверчок
Эту небольшую историю рассказал шорник Сверчок, весь ноябрь работавший вместе с другим шорником, Василием, у помещика Ремера.
Ноябрь стоял темный и грязный, зима все не налаживалась. Ремеру с его молодой женой, недавно поселившимся в дедовской усадьбе, было скучно, и вот они стали ходить по вечерам из своего еще забитого дома, где только внизу, под колоннами, была одна сносная жилая комната, в старый флигель, в упраздненную контору, где зимовала птица и помещались шорники, работник и кухарка.
Вечером под Введение несло непроглядной мокрой вьюгой. В просторной и низкой конторе, когда-то беленной мелом, было очень тепло и сыро, густо воняло махоркой, жестяной лампочкой, горевшей на верстаке, сапожным варом, политурой и мятной кислотой кожи, куски и обрезки которой, вместе с инструментами, новой и старой сбруей, хомутиной, потниками, дратвой и медным набором навалены были и на верстаке и на затоптанном, сорном полу. Воняло и птицей из темной пристройки, но Сверчок и Василий, ночевавшие в этой вони и каждый день часов по десяти сидевшие в ней с согнутыми спинами, были, как всегда, очень довольны своим помещеньем, особенно тем, что Ремер не жалеет топки. С узеньких подоконников капало, на черных стеклах сверкал и резко белел липкий, мокрый снег. Шорники пристально работали, кухарка, небольшая женщина в полушубке и мужицких сапогах, назябшаяся за день, отдыхала на продранном стуле у горячей печки. Она грела спину и, не сводя глаз с лампочки, слушала шум ветра, потрясавшего порою весь флигель, постукиванье по хомуту, который делал Василий, и старчески-детское дыхание лысого Сверчка, возившегося над шлеёй и в затруднительные минуты шевелившего красным кончиком языка.
Лампочка, облитая керосином, стояла на самом краю верстака и как раз посредине между работавшими, чтобы видней было обоим, но Василий то и дело подвигал ее к себе своей сильной, жилистой, смуглой рукой, засученной по локоть. Сила, уверенность в силе чувствовались и во всей осанке этого черноволосого человека, похожего на малайца, - в каждой выпуклости его мускулистого тела, обозначавшегося под тонкой, точно истлевшей рубахой, бывшей когда-то красной, и всегда казалось, что Сверчок, маленький и, несмотря на видимую бодрость, весь разбитый, как все дворовые люди, побаивается Василия, никогда никого не боявшегося. Казалось это и самому Василию, усвоившему себе манеру, как бы в шутку, на забаву окружающим, покрикивать на Сверчка, даже помогавшего этой шутке.
Василий, держа между коленками, прикрытыми засаленным фартуком, новый хомут, обтягивал его темно-лиловой толстой кожей, одной рукой крепко захватывая ее и туго натаскивая на дерево клещами, а другой вынимая из сжатых губ гвозди с медными шляпками, втыкая их в наколы, заранее сделанные шилом, и затем с одного маха ловко и сильно вколачивая молотком. Он низко нагнул свою большую голову в черных, влажно-курчавых волосах, перехваченных ремешком, и работал с той приятной, ладной напряженностью, которая дается только хорошо развитой силой, талантом. Напряженно работал и Сверчок, но напряженность эта была иного рода. Он прошивал концом новую розово-телесного цвета шлею, тоже захватив ее в колени, в голенища и фартук, и с трудом накалывал, с трудом, шевеля языком и приноравливая к свету лысую голову, попадал щетиной в дырочки, хотя раздергивал в разные стороны и закреплял конец даже с некоторой удалью старого, наторелого мастера.
Наклоненное к хомуту лицо Василия, широкое, с выступающими под масленистой желто-смуглой кожей костями, с редкими и жесткими черными волосами над углами губ, было строго, нахмурено, значительно. А по наклоненному к шлее лицу Сверчка видно было только то, что ему темно и трудно. Он был ровно вдвое старше Василия и чуть не вдвое меньше ростом. Сидел ли он, вставал ли, разница была невелика, так коротки были его ноги, обутые в разбитые, ставшие от старости мягкими, сапоги. Ходил он, - тоже от старости и от килы, - неловко, согнувшись, так, что отставал фартук и виден был глубоко провалившийся живот, слабо, по-детски подпоясанный. По-детски темны были его черные глазки, похожие на маслинки, а лицо имело слегка лукавый, насмешливый вид: нижняя челюсть у Сверчка выдавалась, а верхняя губа, на которой темнели две тонких, всегда мокрых косички, западала. Вместо "барин" говорил он "баин", вместо "было" - "быво" и часто всхлипывал, подтирая большой холодной рукой, суставами указательного пальца, свой повисший носик, на конце которого все держалась светлая капелька. Пахло от него махоркой, кожей и еще чем-то острым, как от всех стариков.
Сквозь шум метели послышался из сеней топот обиваемых от снега ног, хлопанье дверей - и, внося с собой свежий, хороший запах, вошли господа, залепленные белыми хлопьями, с мокрыми лицами и блестками на волосах и одежде. Темно-красная борода и густые, нависшие над серьезными и живыми глазами брови Ремера, глянцевитый каракулевый воротник его мохнатого пальто и каракулевая шапка казались от этих блесток еще великолепнее, а нежное, милое лицо его жены, ее мягкие длинные ресницы, сине-серые глаза и пуховый платок еще нежнее и милее. Кухарка хотела уступить ей продранный стул, она ласково поблагодарила ее, заставила остаться на своем месте и села на скамью в другой угол, осторожно сняв с нее узду со сломанными удилами, потом слабо зевнула, повела плечами, улыбнулась и тоже засмотрелась на огонь широко раскрытыми глазами. Ремер закурил и стал ходить по комнате, не раздевшись и не сняв шапки. Как всегда, господа пришли только на минутку, - уж очень тяжелый и теплый был у шорников воздух, - но потом, как всегда, забылись, потеряли обоняние... И вот тут-то, неожидан но для всех, и рассказал Сверчок свою историю.
- Однако ты, брат, ловок, - прошепелявил он, когда Василий, поздоровавшись с господами кивком головы, опять придвинул к себе лампочку. - Однако ты, бъат, вовок. Я небось пастарше тебя немножко, - сказал он, всхлипывая и подтирая нос.
- Что? - притворно грозно крикнул Василий, сдвигая брови. - Может, тебе еще газовый рожок зажечь? Ослеп - так в богадельню.
Все улыбнулись, - даже и барыня, которой все-таки немного неприятны были эти шутки, - и подумали, что Сверчок, как всегда, отпустит что-нибудь смешное. Но на этот раз он только головой покрутил и, вздохнув, остановил взгляд на черных стеклах, залепленных белыми хлопьями. Потом, взяв шило своей большой, в крупных жилах рукой с широко расставленными суставами большого и указательного пальцев, неловко и с трудом воткнул его в розоватую сырую кожу. Кухарка, заметив, что он смотрел на окна, заговорила о том, как она боится, что ее мужик, поехавший за коновалом в Чичерине, замерзнет, собьется с дороги, как вдруг Сверчок, делая вид, что он занят, сказал с грустным добродушием.
- Да, брат, ослеп... Поневоле ослепнешь! Ты вот доживи-ка до моих годов да прочувствуй с мое! АН не доживешь! Я вот спокон веку такой, неизвестно, в чем душа держится, а все тянулся, жил - и еще бы столько же прожил, как бы было зачем. Я брат, очень даже хотел жить, пока было антиресно, и жил, смерти не поддавался. А твою-то силу мы еще не знаем. Молода, в Саксоне не была...
Василий посмотрел на него пристально, как посмотрели господа и кухарка, удивленные его необычным тоном, - на минуту, в молчании, особенно явственно стал слышен шум ветра, - к серьезно спросил:
- Что это ты буровишь такое?
- Я-то! - сказал Сверчок, поднимая голову. - Нет, брат, я не буровлю. Я это про сына вспомнил. Слышал небось, какой молодец-то был? Пожалуй, еще почище тебя будет, а вот не мог же того выдержать, что я.
- Ведь он замерз, кажется? - спросил Ремер.
- Я его знал, - ответил Василий и, не стесняясь, как говорят о ребенке при нем же самом, добавил: -Да он и не сын ему, говорят, был, - Сверчку-то. Не в мать, не в отца, а в проезжего молодца.
- Это дело иное, - так же просто сказал и Сверчок, - это все может быть, а почитал он меня не меньше отца, дай бог, чтобы твои так-то тебя почитали, да и не докапывался я, сын он мне али нет, моя кровь аль чужая... авось она у всех одинаковая! Сила в том, что он, может, дороже десятерых родных мне был. Вы вот, барин, и вы, сударыня, - сказал Сверчок, поворачивая голову к господам и особенно ласково выговаривая: "сударыня", - вы вот послушайте, как было-с это дело, как замерз-то он. Я ведь его всю ночь на закорках таскал!
- Кура сильная была? - спросила кухарка.
- Никак нет, - сказал Сверчок. - Туман.
- Как туман? - спросила барыня. - Да разве в туман можно замерзнуть? И зачем же вы его таскали?
Сверчок кротко улыбнулся.
- Хм! - сказал он. - Да вы того, судырня, и вообразить себе не можете-с, до чего он, туман-то этот, может замучить! А таскал я его затем, что уж очень жалко было-с, все думал отстоять его от этого... от смерти-то. Это так вышло, картаво начал он, обращаясь не к Василию и не к Ремеру, а только к одной барыне, - это вышло-с как раз под самый Николин день...