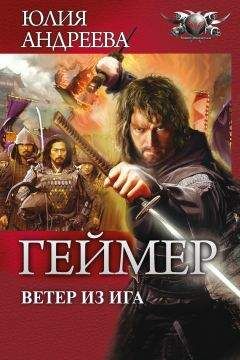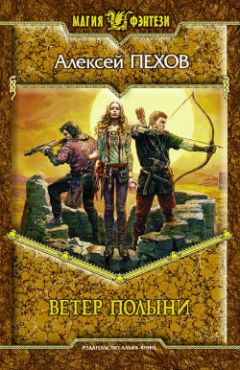Феликс Разумовский - Умытые кровью. Книга II. Колыбельная по товарищам
В его интеллигентном, хорошо поставленном голосе не было даже намека на шутку.
– Вы, господин полковник, верно, не знаете, что я произведен в капитаны? – Граевский дружелюбно улыбнулся, сунув руку в карман, нащупал рукоять «бульдога» и тоже глянул в угол, мельком. – Да и разве мы соседи?
Страшила восседал восточным истуканом – с непроницаемым лицом, в чалме, по-турецки. Паршин был зол, как сто чертей, и держался попроще – негромко матерился сквозь стиснутые зубы. Под глазом у него алел большой кровоподтек, острие стилета отливало красным. Рядом, у стены, отирался какой-то негодяй с наганом в руке, еще один, устроившись на подоконнике, задумчиво курил, посматривая на пленников, и ловко сплевывал на каминное зеркало.
– Со вчерашнего дня, голубчик, со вчерашнего дня. – Полковник широко улыбнулся, отчего подусники его разошлись в стороны. – Я теперь ваш сосед сверху. Профессор оставил мне свою квартиру и бабу в придачу, а сам переселился в другое место. – Он вдруг сочно заржал, так что на глазах выступили слезы, отдышавшись, коротко махнул рукой: – Ну же, Кирюшка, не маячь, отлезь в туман. А вы, голубчик, присаживайтесь, выпьем за встречу.
Из-за спины Граевского вынырнул крепыш в кожаной куртке, не убирая револьвера, он с ухмылкой пересек комнату и уселся на диван, где уже полулежали двое. Один, с изломанным лицом, ужасно матерился разбитыми губами, другой держался за живот и, испепеляя взглядом Паршина, в душе благодарил своих бандитских богов – еще бы чуть-чуть, и все кишки наружу.
– Благодарю. – Возликовав в душе, Граевский выпустил «бульдога», с достоинством усевшись, кивнул на связанных товарищей: – Однако странная все-таки получается встреча. А как же, господа однополчане, армейская дружба?
Он уже понял, какую кашу заварил покойный профессор Варенуха и что групповые похороны пока отменяются.
– Вы бы прикусили язык, штабс-капитан. – Фролов, рассвирепев, прищурился, в мятом голосе его послышалось раздражение. – А лучше засунули бы себе в задницу. Лезете куда ни попадя, путаете карты… Что, уже не остановиться? Привыкли резать всех подряд у себя в разведке…
– А вы, я вижу, Дмитрий Васильевич, на флот подались? – Подняв плетью бровь, Граевский с издевочкой хмыкнул, привстал, налил полковнику и себе. – Значит, в нижние чины, в матросы революции? А что, бескозырка вам очень к лицу. Бог даст, дослужитесь до фендрика[1].
– Господа, немедленно прекратите! – Нахмурившись, Мартыненко выпил, сунул в рот осколок шоколада. – Пикироваться devant les gens![1] Что за моветон!
Он демонстративно глянул на диван, где расположились трое негодяев, с отвращением вздохнул и перевел сверлящий взгляд на Граевского:
– Голубчик, вы загнали в ящик двух моих людей и испортили мне всю обедню. Не отпирайтесь, Варенуха рассказал мне все как на духу, исповедовался, можно сказать, в последний час. – Вспомнив что-то, он вдруг расхохотался, отрывисто, страшно, одними губами. – Много чего интересного наговорил покойник, такой дар красноречия прорезался. Ну да ладно, мир его праху, пусть плавает себе спокойно. Так вот, голубчик, frankly speaking I don't feel pity for those men – they were real bastards, dirty vomit[2], большая груда зловонного merde[3] посреди стола. Увы, обстоятельства таковы, что, хочешь не хочешь, приходится иметь дело с all kinds of scoundrels[4]. О, времена, о, нравы! Tout passe[2], tout casse[2], tout lasse[25]. Однако, голубчик, вы наступили на мозоль организации, и ergo[6] придется отвечать, кровью. Своей или чужой. Отвертеться не удастся.
Он взял многозначительную паузу, налил себе одному и интеллигентно, изящным жестом поднял пузатую рюмку:
– За приятную встречу!
– Хороший коньячок, но мягковат. – Не чокаясь, Граевский выпил, застыл, прислушиваясь к ощущениям, кивнул, с усмешкой потянулся за изюмом. – Не поверите, господа, но по мне лучше шустовский, в нем как-то больше чувствуется жизнь. – Он вкусно чмокнул и в продолжение разговора внимательно взглянул на Мартыненко: – Так, значит, господин полковник, вам требуются волонтеры в ваше войско?
– Ну, конечно же, черт побери. – Тот хотел было налить, но передумал, сунул в рот зернышко миндаля. – I'm, my dear, sick and tired of all this horseshit on a plate – rapers, villains, robbers, thieves. It's more plesant to work with noble, intelligent people, people with heart and brains[1]. – Он остановился, выразительно взглянул на матроса Фролова. – Fortes fortuna adjuvat[2]. Мы, русские офицеры, имеем свирепое право на жизнь и богатство. Нас предали все, начиная с сиятельного недоноска и кончая местечковыми жидами, окопавшимися в Совнаркоме. Пока мы гнили на фронте, поганые нувориши набивали мошну, а пархатые комиссары с красножопым хамьем насиловали наших жен и жгли ярким пламенем наши поместья. Только просчитались и те, и другие, мы хорошо знаем, как входит сталь во вражескую глотку. Добродетель, нравственность, христианская мораль – все это теплая блевотина, собачье дерьмо, спасительное лицемерие для юродствующих импотентов. Мы еще возьмем свое. К черту присягу – ubi bene, ibi patria[3].
Выступать бы Мартыненко с трибуны, далеко бы пошел…
– Могу я подумать? Посоветоваться с друзьями? – Сраженный красноречием полковника, Граевский глянул в угол, вздохнул: – Дело-то нешуточное. Легко соглашаются только шлюхи.
– Какие, к чертовой матери, совещания? – Мартыненко побагровел и стукнул кулаком об стол, так что подскочили тарелки. – Ваши люди, да и вы, mon cher[1], все еще дышите лишь потому, что нужны мне. Итак, или мы будем вместе, или мы будем, а вы нет. Составите компанию профессору.
– Омерзительное зрелище, ломается, как гимназистка. – Фролов вытащил сигару, понюхав, выразительно взглянул на кожанку Граевского. – А сам, можно подумать, занимается благотворительностью. Уж не брезгуете ли вы, господин капитан, старой полковой дружбой?
Он поднялся, подошел к камину и с садистской ухмылочкой гильотинировал сигару – кончик ее отлетел, словно отрубленная голова.
– Хорошо, господа, будь по-вашему. – Хрустнув пальцами, Граевский кивнул, медленно опустил глаза. – Да здравствует старая полковая дружба.
В глубине души он был рад, что не открыл стрельбу, неизвестно еще, чем бы все закончилось, а так хоть какая-то перспектива.
– Чудесно. La voila[1] l'entente cordiale[2]. – Полковник выпил в одиночку, достав часы, нажал на репетир, поднялся. – Однако бежит время. Дмитрий Васильевич, уводите людей. А вас, господин капитан, жду сегодня к восемнадцати ноль-ноль на постановку боевой задачи. Думаю, дело будет…
Он протянул холеную, в драгоценных перстнях руку и, не торопясь, вразвалочку, покинул кабинет. О том, что их могут просто обмануть, ни Мартыненко, ни Фролов даже не подумали, оба знали Граевского не первый день.
II
Наступила весна, однако Владимир Ильич Ленин был мрачен, словно безлунная декабрьская ночь. Что-то уж слишком разошлись, разгулялись балтийские ветры, расшумелись на улицах Питера, выдувая из красных альбатросов классовое чутье и революционную сознательность. Не нравится им, видите ли, дисциплина, сухой закон и отволглый хлеб, не о такой новой жизни они мечтали! Вспоминают наваристый флотский борщ и предобеденную полуденную чарку! Налицо мелкобуржуазный синдром, анархический декаданс и полное непонимание исторического момента.