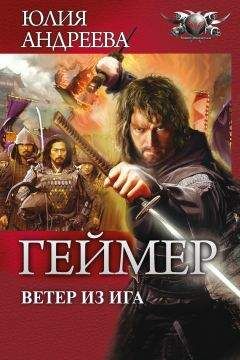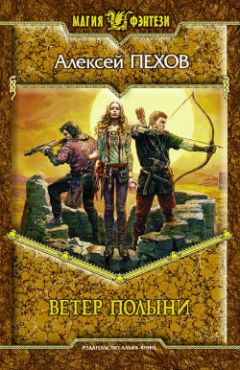Феликс Разумовский - Умытые кровью. Книга II. Колыбельная по товарищам
– Тихон, ты помнишь Варвару? – Граевскому вдруг показалось, что цветом мышь не белая, а седая, он рывком придвинул табурет к кровати, скрипнув ремнями, сел. – Где она?
– Варька-то? Кто ж ее знает. Раньше с жидом жила, во дворце на Фонтанке, у Невского. – Тихон беззубо рассмеялся, глядя, как мышь засеменила на задних лапах, держа в передних хвостик, словно шлейф. – А вот Олюшка точно на Смоленском. В январе ссильничали ее и раздели, так и замерзла, болезная, на морозе, калачиком. Мы с Василь Кириллычем, старшим дворником, ее на саночки и на погост, а кладбищенские, черти, ни в какую – вы кого нам привезли, ни в один гроб не влезет! Тогда Василь Кириллыч им браслетку генеральшину, и все решилось само собой, полюбовно. Зарыли Олюшку без гроба, в круглую могилку, будто деревце посадили.
Внезапно, перестав смеяться, старик перешел на шепот, оглянувшись, с подозрением погрозил Граевскому пальцем:
– Ты смотри, Никитка, смотри, не говори ничего Василь Кириллычу насчет браслетки-то, он меня не забывает, кусок дает. Не его грех, все брали. Вот, смотри-ка. – Тихон тяжело сполз на пол и, встав на колени, с трудом вытащил из-под кровати доверху набитую корзину. – Мы, чай, не хуже этих из коммунии, заслужили.
Двигался он как-то неуверенно, на ощупь, с осторожной медлительностью слепого человека. Глаза его были пустые, мертвые, смотрели в одну точку.
«Эх, Тихон, Тихон». Чувствуя себя последним идиотом, Граевский горестно вздохнул, тупо, без мыслей, склонился над корзинкой. Чайный сервиз, тряпки, бронзовый ларец, подсвечники стояли на камине в гостиной. Дядюшкин, с золотой насечкой, «смит-и-вессон», дамское, в кружавчиках, белье, забавный мельхиоровый мопс-копилка. Тяжелый и пустой. Фотографический альбом, толстый, с серебряными уголками. Дядюшка в полковничьем мундире, с парадной шашкой, на коне. Тетушка в роскошном декольте, с алмазной брошью, на балу. Сияющая Галина с мужем и ребенком. Серьезная, с надменным взглядом, Ольга. Наивный, полный веры в справедливость, кадет Граевский… Их уже не вернуть… Варвара… Улыбающаяся, манящая, в воздушной шляпке на пышных волосах.
Прошло лет пять, не меньше, как фотограф чикнул грушей, почему же так бешено забилось сердце и ноздри уловили волнующий, сладко путающий мысли аромат?
В мае тринадцатого года старый выборгский парк Монрепо утопал в океане сирени. От ее запаха кружилась голова, сердце замирало в предчувствии счастья, и весь мир казался созданным для любви. Они с Варварой долго гуляли по аллеям, бродили, взявшись за руки, по булыжным мостовым, наплевав на все приличия, целовались, громко хохотали, болтали ни о чем.
Старый Выборг очаровал их. Витрины магазинчиков были солидны, локоны крепеньких, улыбчивых фрекен безукоризненны и белокуры, полицейские в черных сюртуках держались подтянуто и молчаливо. Стерильность уличных уборных вызывала благоговение, буфетные-автоматы работали как часы, прокатные автомобили были недороги и приезжали по первому же телефонному звонку.
В маленьком ресторанчике при гостинице они пили «ласточку»[1] с жареными фисташками, ели финскую, с корицей, простоквашу, мазали на хлеб паштеты и икру, медленно, со вкусом, поворачивали шведский «секст» – круглое, вертящееся блюдо с закусками, разделенное на секторы. А потом в крохотном номере на скрипучей кровати они были вдвоем всю ночь… Неужели пять лет прошло с тех пор? Кажется, это было вчера.
– Понравится если что, не робей, Никитка, бери, все одно на хлеб менять. – Упираясь руками в пол, Тихон поднялся с колен, снова улегся и, путаясь, стал натягивать одеяло. – Генералу только не говори. Узнает, всем будет на орехи. И Василь Кириллычу, и мне, и комиссарам этим… Как он нас вел в атаку-то под Рошичем!
Старик вдруг рывком уселся на кровати.
– Молодцы! Шашки вон! Взводными колоннами в атаку, марш, марш! – Голос его тут же сорвался, превратился в хрип. Застонав, Тихон обхватил руками голову, откинулся на грязную ситцевую подушку. – Темно-то как, хоть бы лучину кто зажег. Ну, иди, Никитка, с Богом, скоро Василь Кириллыч вернется, как бы ему с генералом-то не столкнуться…
То ли всхлипнув, то ли засмеявшись, он отвернулся лицом к стене, накрылся с головой и, скорчившись, подтянув колени к животу, затих, будто окоченел на морозе. Мышка, тихо пискнув, взобралась по кроватной ножке и закатилась белым шариком под одеяло. Настала тишина, лишь ветер задувал в трубу да хрипло, будто бы кончаясь, дышал старик.
Граевский вытащил кисет, сколько было денег – сунул под подушку, усмехнулся горько: «Не бойся, Тихон, генералу я ничего не скажу». Запихнул ногой корзину под кровать, спрятал на груди альбом и, не оглядываясь, медленно пошел прочь.
Только сейчас он понял со всей отчетливостью, отчего быструю смерть в расцвете сил древние почитали за высшее благо.
На улице по-прежнему светило солнце, только теперь оно не радовало Граевского. Холодные лучи его больше не слепили глаза, били в спину, заставляя замечать мертвые тела, кое-где выглядывавшие из-под снега, горестные морщинки на женских лицах, всю эту страшную неухоженность некогда блистательного города.
– Тряхни-ка, товарищ. – Неподалеку от Госдумы Граевский разжился табачком, молча, греясь у костра, покурил в компании военморов. Гостиный был закрыт, вдоль рядов фланировали проститутки, озябшие, красноносые, только покупателей на продрогшее тело что-то не находилось.
– Спасибо, товарищ. – Граевский выплюнул окурок и, поправив кобуру, двинулся дальше. – Всеобщий классовый привет.
На Аничковом мосту он остановился, сунув руки в карманы, посмотрел по сторонам. В глаза сразу бросилось гротескное, насквозь фальшивое строение в виде рыцарского замка, весь вид которого кричал о претензии на оригинальность, тяге к роскоши и желании любым путем заявить о себе в этой жизни.
– Ланселот чертов. – Неожиданно разозлившись, Граевский повернул с моста на набережную и вошел в просторный вестибюль, полный грязи, суеты и неразберихи. Какие-то люди в шинелях таскали вверх по лестнице фанеру и доски, брызгая раствором, неумело клали вкривь и вкось кирпичную перегородку, прямо со ступенек у входа выгружали носилки со строительным мусором. Стук топоров, скрежет мастерков, лязг лопат, хруст битого стекла под сапогами.
Распоряжалась всем этим хаосом худенькая большегрудая женщина в кожаной тужурке и щегольских, высоко шнурованных башмаках. Глаза у нее были зеленые и распутные, на рукаве красная повязка с белой надписью: «Комендант».
– Извиняюсь, товарищ, – Граевский скрипнул кожанкой, нахально, очень по-мужски, улыбнулся, – вас можно на минуточку?
– Можно и на побольше, – повернувшись, женщина окинула его взглядом, вздернув брови, сразу же улыбнулась в ответ, – а то ведь за минуточку и муж может. Папироской не угостите, товарищ?