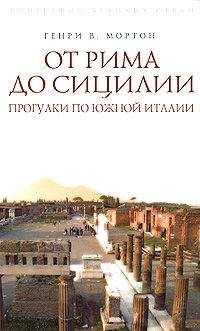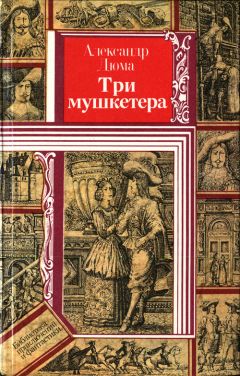Александр Дюма - Паскуале Бруно
Священнослужитель подошел к нему безмятежно-спокойный, как и подобает носителю мира и благодати; он подумал, что Паскуале спит, и положил руку ему на плечо. Паскуале вздрогнул и поднял голову.
— Ну как, сын мой, — спросил священник, — готовы ли вы исповедоваться? Я готов отпустить вам грехи…
— Я отвечу вам чуть позже, святой отец. Но прежде окажите мне последнюю услугу, — сказал Бруно.
— В чем дело? Говорите.
Бруно встал, взял священника за руку и подошел с ним к гробу, насколько позволяла длина цепи.
— Святой отец, — проговорил он, указывая на покойницу, — приподнимите, прошу вас, край савана: я хочу увидеть лицо этой женщины.
Священник приподнял саван. Паскуале не ошибся: в гробу лежала Тереза. Он с глубокой грустью посмотрел на нее, затем сделал знак священнику, чтобы тот опустил саван. Священник исполнил его просьбу.
— Скажите, сын мой, — спросил он, — не навел ли вас вид этой женщины на благочестивые мысли?
— Святой отец, эта женщина и я были созданы, чтобы жить счастливо, не ведая греха. Она сделала из нее клятвопреступницу, а из меня убийцу. Она привела нас обоих — эту женщину дорогой безумия, а меня дорогой отчаяния — на край могилы, куда мы оба сойдем сегодня. Пусть Бог простит ее, если посмеет, я не прощу!
В эту минуту вошли стражники, чтобы вести Паскуале на казнь.
XII
Небо было безоблачно, воздух чист и прозрачен; Палермо пробуждался, словно в ожидании праздника: занятия в школах и семинариях были отменены и, казалось, все население собралось на улице Толедо, по которой должен был проехать осужденный, так как церковь святого Франциска Сальского, где он провел ночь, находилась на одном конце улицы, а Морская площадь, где готовилась казнь, — на другом. Все окна нижних этажей были заняты женщинами, ибо любопытство подняло их на ноги в тот час, когда они обычно еще нежились в постели; за иными зарешеченными окнами[13] мелькали как тени монахини различных монастырей Палермо и его окрестностей, а на плоских крышах города колыхалась, будто хлебное поле, толпа зрителей, забравшихся выше всех. У двери церкви осужденного ждала повозка с впряженными в нее мулами; впереди нее шествовали члены братства белых кающихся: первый из них держал крест, а четверо остальных несли гроб; позади повозки ехал верхом на коне палач с красным флагом в руке; за палачом шли двое его помощников; за ними, наконец, выступало братство черных кающихся — оно замыкало шествие, двигавшееся между двойными рядами стражников и солдат; по бокам его и среди толпы сновали мужчины в длинном сером одеянии с капюшонами, в которых были проделаны отверстия для глаз и рта; они держали в одной руке колокольчик, а в другой кошель и собирали деньги на то, чтобы помолиться об освобождении из чистилища души еще живого преступника. В городе распространился слух, что осужденный отказался от исповеди, и этот поступок, шедший вразрез со всеми религиозными понятиями, придавал особый вес молве об адском пакте, якобы заключенном между Бруно и врагом рода человеческого, молве, распространившейся с начала его недолгой и бурной карьеры; и чувство, близкое к ужасу, охватило всю эту снедаемую любопытством, но безмолвную толпу, ибо ни единый звук, будь то возглас, крик или шепот, не нарушил заупокойных молитв — их пели белые кающиеся во главе шествия и черные кающиеся в его хвосте. По мере того как повозка с осужденным продвигалась по улице Толедо, росло и количество любопытных, которые примыкали к шествию и провожали его к Морской площади. Один Паскуале казался спокойным среди всех этих возбужденных людей, он смотрел на окружающих без униженности и без гордыни, как человек, который, осознав обязанности личности перед обществом и права общества по отношению к личности, не раскаивается в том, что пренебрег обществом, и не жалуется на то, что оно покарало его за нарушение прав личности.
Шествие задержалось в центре города, на площади Четырех углов; на улице Кассаро собралось столько народу, что шеренга солдат была смята, люди хлынули на середину улицы и передние кающиеся не могли пробиться дальше. Воспользовавшись этой остановкой, Паскуале встал во весь рост и посмотрел вокруг с высоты повозки, словно он искал кого-то, кому хотел отдать последний приказ, сделать последний знак; но, как ни всматривался осужденный в толпу, он, видимо, не нашел того, кого искал, так как снова опустился на охапку соломы, служившую ему сидением; лицо его приняло мрачное выражение и становилось все мрачнее, чем дальше шествие продвигалось к Морской площади. Здесь опять образовался затор, потребовавший новой остановки. Паскуале второй раз встал на ноги, бросил сначала безразличный взгляд на противоположный конец площади, где стояла виселица, затем осмотрел всю огромную площадь, словно устланную головами, за исключением безлюдной террасы князя Бутера, и остановил свой взгляд на роскошном балконе, затянутом шелковой камкой с золотыми цветами и защищенном от солнца пурпурным навесом. Здесь, окруженная самыми красивыми женщинами и самыми знатными вельможами Палермо, восседала на чем-то вроде помоста прекрасная Джемма Кастельнуово: желая полностью насладиться агонией своего врага, она приказала поставить свой трон как раз напротив эшафота. Глаза Паскуале Бруно встретились с ее глазами, и лучи их взглядов скрестились, наподобие двух молний, исполненных ненависти и мести. Они еще не успели оторваться друг от друга, когда из толпы, окружающей повозку, донесся какой-то странный крик; Паскуале вздрогнул, мгновенно повернул голову, и его лицо сразу приняло прежнее спокойное выражение, более того, в нем промелькнуло нечто похожее на радость. В эту минуту шествие снова тронулось, но тут раздался громкий голос Бруно:
— Остановитесь!
Слово это возымело магическое действие: толпа словно разом приросла к земле; все головы повернулись к осужденному, и тысячи горящих взглядов устремились на него.
— Что тебе? — спросил палач.
— Хочу исповедаться, — ответил Паскуале.
— Священник ушел; ты сам его отослал.
— Мой духовник — вот тот монах, слева от меня, в толпе. Я не хочу другого, мне нужен мой духовник.
Палач нетерпеливо покачал головой, но в то же мгновение народ, слышавший просьбу осужденного, закричал:
— Духовника! Духовника!
Палачу пришлось повиноваться; шествие остановилось перед монахом: это был высокий юноша с темным цветом лица, видимо исхудавший от поста и молитвы. Едва он поднялся в повозку, как Бруно упал на колени. Это послужило всеобщим сигналом: на площади, на балконах, в окнах, на крышах домов люди преклонили колена; исключение составил лишь палач, оставшийся в седле, да его помощники, продолжавшие стоять, как будто эти проклятые Богом люди потеряли надежду на прощение своих грехов. Одновременно кающиеся затянули отходную, чтобы заглушить голоса исповедника и духовника.