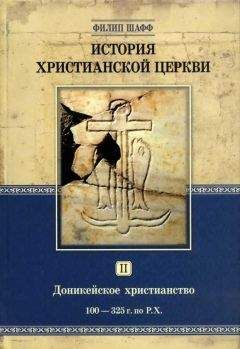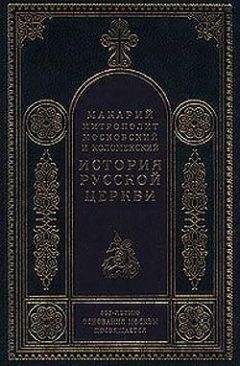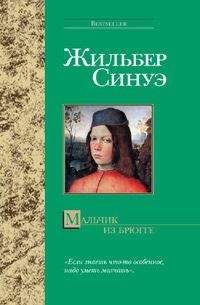Жильбер Синуэ - Порфира и олива
Когда первоначальное потрясение стало спадать, рабов охватило лихорадочное возбуждение. Некоторые бросились к ногам старика, другие рвались целовать ему руки, однако большинство хранило молчание, пытаясь разобраться во множестве нахлынувших противоречивых мыслей.
— Ну же, друзья, возьмите себя в руки, — промолвил сенатор. — Используем с толком время, которое нам еще осталось. Ты, — он обернулся к Ипполиту, — не медля поспеши к цензору Клавдию Максиму. Он мне нужен, чтобы заверить мое завещание. Ты, Эфесий, собери все документы, необходимые для выражения моей последней воли. Что до всех прочих, возвращайтесь к своим занятиям.
И вот все, кроме управителя, покинули атриум. Тут впервые за долгие годы его службы Аполлоний обнаружил на непроницаемой физиономии Эфесия следы подлинного смятения.
— Хозяин... хозяин, это правда? Преторианцы придут, и...
— Увы, да, мой славный Эфесий. Здесь был Карпофор, приходил меня предупредить. Они, разумеется, не замедлят появиться.
— В таком случае... твоя сестра, Ливия, она ведь тоже в опасности!
— Поручаю ее тебе. У интриганов, кишащих вокруг нашего императора, нет — по крайности мне бы хотелось так думать — никаких причин ополчаться на нее.
— А ты не боишься, что она чем-нибудь выдаст себя, когда узнает о твоем аресте.
Пергаментная усмешка сморщила лицо старика:
— Нет-нет. Ливия по натуре робка и скромна.
— Именно существа такого склада становятся самыми бесстрашными, когда обстоятельства насилуют их природу.
— Успокойся, мой друг. И не забудь передать ей, как я ее люблю. Боюсь, у меня самого не хватит на это мужества.
Управитель отвесил поклон. Его лицо обрело обычную твердость, и он принялся один за другим открывать ларцы, где хранились акты о праве собственности и семейные бумаги Аполлония.
Взяв со столика восковую дощечку и стиль, особую заостренную палочку, он приготовился писать под диктовку сенатора.
— Может быть, ты предпочел бы позвать писца? У него, без сомнения, все это получится разборчивее, чем у меня.
Аполлоний не отвечал. Удивленный Эфесий вскинул на него глаза. Слабо освещенные трепетным светом масляных ламп, черты его господина странно застыли. Он прошептал:
— Уже не стоит труда.
Тут вилликус различил размеренный шум шагов. Этот звук издают только подошвы, подбитые гвоздями. Такую обувь носят одни лишь преторианцы.
Глава XI
Форум Цезаря, по обыкновению, заполняла пестрая толпа. С одной стороны сенаторы, всадники, благородные матроны в шелках и пурпурных крашеных тканях, явившиеся из садов или из-под портиков Марсова Поля. С другой, — разношерстная масса обитателей расположенной неподалеку Субуры. В одеяниях из шерсти и льна, в развевающихся платьях, какие носят в восточных провинциях, в куцых туниках атлетов, в галльских плащах, а то и в вызывающих нарядах уличных девок.
Щеголеватые группы скапливались у самых роскошных лавок, спорили о ценах на слоновую кость, драгоценную посуду и меха. Плебеи, те ожесточенно торговались с огородниками, предлагавшими в простых плетеных корзинах овощи и фрукты, которые они притаскивали сюда со своих плоскодонных суденышек, пришвартованных на Тибре у деревянных понтонов. Мужчины приятельски болтали, толпясь возле винных лавок; другие, прячась от палящего зноя под сенью аркад, окружающих площадь, развалились на скамеечках в каких-нибудь цирюльнях, где обменивались последними столичными слухами. К Алкону, даром что цены он заламывал невероятно высокие, заходили особенно охотно. Не часто найдешь брадобрея, который бы вам бороду подправил, а физиономию не искромсал.
Алкон же был как раз из таких.
Он в последний раз деликатно провел лезвием своей бритвы по круглой щеке клиента, субъекта жирного и одутловатого, чей наряд говорил о зажиточности.
Вокруг них, как пчелы в улье, так и кружили подмастерья, точившие хозяйские лезвия, щеголеватые юнцы, позирующие перед большими бронзовыми зеркалами, что служили едва ли не единственным украшением цирюльни. Тут же и любопытные, без конца снующие взад-вперед, и болтовня клиентов, производящая прерывистый шум.
В этих стенах обменивались самыми расхожими сплетнями, анекдотами, рожденными накануне, а то и передавали шепотом секреты, которых, казалось, невозможно было бы услышать нигде, кроме строгих коридоров императорского дворца.
— Ну, — послышался голос, — если верить последним новостям, мы рискуем узреть деяния нового Нерона.
— Это все сенаторская клевета, — возразил кто-то, — в нашем юном Августе нет ничего от кровавого безумца. Лучшее тому доказательство — Луцилла. Вместо того чтобы казнить ее вместе с сообщниками, он отослал ее в изгнание на Капри.
— А ее муж, благородный Помпеанус? — спросил третий.
— Он спас свою шкуру тем, что согласился отказаться от власти и удалиться в Таррацину.
Клиент Алкона, которого как раз брили, аж подскочил:
— А как...
И осекся, скривившись, схватился за порезанную щеку — не вовремя дернулся.
— Спокойнее, господин Сервилий! — рявкнул брадобрей. — Не то пострадают и твое лицо, и моя репутация.
— Велика важность твоя репутация! — проворчал Сервилий. — А вот с моей кожей поаккуратнее.
И он вернулся к недоговоренному вопросу:
— А сообщники Помпеануса, какова их судьба?
— Какие сообщники?
— Я хочу сказать... ох, проклятый Алкон!.. Ну, те, что связаны с ним общими делами.
— Господин Сервилий, — с живостью запротестовал брадобрей, — ты, может быть, и не прочь стать похожим на гладиатора, который только что с арены, но повторяю тебе: я должен беречь свою репутацию. Если ты еще хоть раз дернешься, перечень бород, что я обычно брею, уменьшится как раз на твою.
Ответом на реплику Алкона был целый каскад смешков. Что до Сервилия, он ограничился тем, что раздраженно пожал плечами. Было видно, что он никак не успокоится — будто на раскаленных угольях сидит.
— Те, кто вел дела с Помпеанусом, — продолжал рассказчик, — как и все служившие при старом режиме, будут, без сомнения, выпущены на волю, как только Перенний, префект преторских когорт, разберет их дела.
— А сенатор Аполлоний?
— Его имени никто отдельно от прочих не называл. Полагаю, если будет доказано, что в заговоре он не замешан, его тоже отпустят.
— По крайности если не выяснится, что он христианин, — пошутил кто-то.
Сервилий чуть не сорвался со своего табурета. Лезвие опять полоснуло его по щеке. Кровь выступила каплями, присутствующие насмешливо усмехались, брадобрей, задетый за живое, с негодованием воздел руки к небесам. На сей раз он не успел выразить возмущение: Сервилий уже вскочил с места.