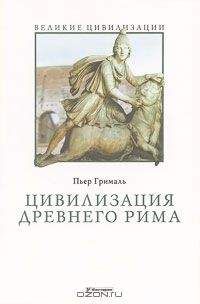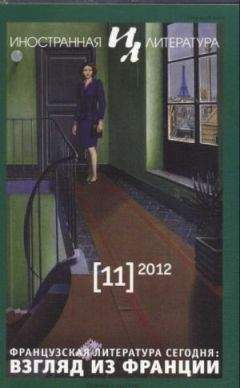Пьер Курти - Империя (Под развалинами Помпеи)
Овидий, едва лишь услышав имя гостьи, заметил Юлии взволнованным голосом:
– Вероятно, в Риме уже носятся слухи о прибытии Клемента. Ради богов, о Юлия, не вымолви о нем ни слова.
– Я хорошо знаю Ургуланию, эту худшую советницу императрицы, – отвечала Юлия.
– Не говори с ней и обо мне.
Сказав это, Овидий через большую дверь вышел на fauces, – так называлась открытая узкая галерея, окружавшая дом и снабженная лестницами, ведшими в подвальный и верхний этажи, – откуда, спустившись во двор, называвшийся cavaedium, и пройдя протир, вышел на улицу, полагая, что прошел незамеченным.[55]
В нескольких шагах от дома, на углу, он увидел Процилла, который, не желая быть узнанным, поторопился, хотя и поздно, закутаться в свой галльский плащ с капюшоном, рукавами и прорезами на обеих сторонах; он находился тут, очевидно, чтобы заметить тех, кто входил и выходил из дома Юлии.
«Ливия знает или подозревает», – подумал поэт и, показывая вид, что он не узнал невольника императрицы, продолжал свой путь, еще более прежнего убежденный в необходимости быть осторожным.
Не скрылся Овидий и от зорких глаз Ургулании, не показавшей, однако, и вида, что она его заметила, когда подойдя к Юлии, встретившей гостью с приветливой улыбкой в лице, стала обнимать ее.
– Что привело тебя, Ургулания, в дом Луция Эмилия Павла? – спросила ее ласково Юлия.
– Не упрекаешь ли ты меня, о Юлия, за то, что я уже давно не была у тебя? – спросила в свою очередь фаворитка Ливии хозяйку дома.
– О нет, кто может осмелиться отрывать тебя от обязанностей, какие ты выполняешь при супруге Августа.
– Сегодня я сама осмелилась сделать это, о, прекрасная Юлия, и потому собственно, чтобы сообщить тебе приятные новости.
– Действительно ли это так? – спросила Юлия, но таким равнодушным тоном, который изобличил в ней полное недоверие к словам Ургулании.
– Да, это так; мать твоя, по желанию Августа, покинет негостеприимную Пандатарию…
– Она переменит небо, но чувства Августа к ней останутся те же самые.
– Нет, и чувства Августа к ней изменились, если он смягчает ее ссылку и переводит ее в Реджию; в этом городе она будет пользоваться большей свободой, нежели на острове Пандатарии, и тебе будет позволено видеться с ней. Все это заставляет думать, что Август скоро ее совсем простит.
Это известие не обрадовало Юлию так, как предполагала Ургулания: внучка Августа хорошо знала, что ни ей, ни ее матери нельзя надеяться на будущее, пока при Августе находится Ливия.
Хотя и замечая недоверие Юлии, Ургулания решилась, однако, затронуть тот предмет, который составлял главную цель ее визита.
– Надобно также надеяться, – сказала она, – что и брат твой будет возвращен тебе.
– Если будет длиться та справедливость, которая сослала его в Сорренто, то напрасна всякая надежда. В чем заключались, например, его преступления? Не можешь ли ты указать мне на них, Ургулания?
– Его грубый характер, его жестокое сердце… По крайней мере, так говорили в то время.
– Об этом протрубили по всем весям и городам, но ни веси, ни города этому не поверили. Грубость и жестокость, не доказанные фактами, не составляют еще преступления, но, тем не менее, они послужили поводом к осуждению. Во всяком случае, следовало бы принять во внимание его крайнюю молодость. А другие братья мои, Луций и Кай, какое преступление совершено ими? Все семейство Випсания Агриппы, которому Август обязан империей, теперь рассеяно. Здесь остается от него лишь одна ломкая тростинка, и кто знает, не наступит ли скоро и ее очередь?
– Ты несправедлива, о Юлия; тебе известно, что Луций и Кай умерли вдали от столицы славной смертью, уже провозглашенные Августом цезарями, усыновленные им и окруженные почестями…
– Да; и жертвы, влекомые к алтарю для заклания, также убираются цветами.
– Ну, хорошо; время покажет нам истину. Но о своем младшем брате не имеешь ли ты известий, о Юлия? – сказала Ургулания.
– Никаких, – отвечала Юлия сухо.
– Никаких? – переспросила Ургулания, устремив на нее пытливые взоры.
– А разве есть какие-нибудь? Скажи мне их, Ургулания.
– Сегодня утром я слышала, что Агриппа Постум находится в Риме; и если этот слух справедлив, то ты, наверно, с ним виделась.
Юлия расхохоталась гомерическим смехом, но ничего не отвечала.
– Ну, что ты скажешь на это? – настаивала гостья.
– А то, что если слух этот справедлив, то, разумеется, я должна была видеться с Агриппой.
– Ты не желаешь сказать прямо, о Юлия; ведь это не ответ.
– Иди, Ургулания, и скажи мачехе моей матери, что она может спать спокойно.
Говоря таким образом, Юля поднялась со своего места, как бы желая прекратить неприятный для нее разговор и распроститься с фавориткой императрицы.
Ургулания, сжимая свои зубы от досады и злости, также встала со своего места и простилась с Юлией в совершенной уверенности, что лицо, встреченное ею на пороге дома Юлии, был Агриппа Постум.
По уходе гостьи, припоминая свой разговор с ней, Юлия подумала о том, что Ургулания, входя к ней, могла встретиться с Клементом, но потом успокоила себя надеждой, что она могла и не узнать его переодетым.
Ургулания, выйдя на улицу, также увидела Процилла, стоявшего у того же угла, и, прежде нежели сесть в бастерну,[56] ожидавшую ее у дверей, подошла к нему и спросила его дрожавшим от волнения голосом:
– Видел ты его?
– Видел.
– Агриппу Постума?
– Да, его; но, может быть, что я ошибся.
– Не он ли вышел из дома, вслед за Публием Овидием Назоном?
– Он.
– Так ты пока сомневаешься?
– Я думаю, что еще не выполнил поручения, как следует.
– Хорошо, а я возвращаюсь на Палатин.
После этого, сев в носилки и указав бывшему при них невольнику дорогу, Ургулания, припоминая прием и обращение с ней Юлии, прошептала с угрозой:
– Дочь Агриппы, ты называешь себя ломкой тростинкой, и прекрасно; а я буду аквилоном, дуновение которого согнет и уничтожит тебя, гордую.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Orti Piniferi
Читателю уже известно, что, кроме полей и вилл на юге Италии, поэт Овидий владел еще домом в Риме, близ самого Капитолия, а на одной из окраин этого города, между via Claudia, тянувшейся по направлению к Лукке, и via Flaminia, которая вела в Этрурию и Умбрию, огородами или, лучше сказать, садами, названными им Orti pinif eri потому, вероятно, что холм, на котором они находились, был покрыт соснами.
Сюда он любил удаляться от шума многолюдного города-, от ненавистного ему придворного притворства, здесь он искал тишины и мира, когда уставал от светской жизни, полной стеснительных для него церемоний. Здесь он отдавался поэтическим вдохновениям и находил удовольствие в занятиях сельским хозяйством, подавая земледельцам советы относительно посева и жатвы, устройства канав и своевременной поливки растений, часто собственноручно сажая и пересаживая цветы, фруктовые и прочие деревья. Когда впоследствии, живя в дикой Скифии, среди чуждого ему народа, говорившего на непонятном для него языке и смотревшего на него как на обыкновенного преступника, он оплакивал прошлые дни, вспоминая родную виллу в Сульмоне, место которой указывают еще теперь кучи развалин,[57] и жаловался на то, что у него не было даже плуга, который мог бы служить ему утехой в его несчастье и уединении, то такие жалобы были искренними в устах нашего поэта. Послушаем его самого: