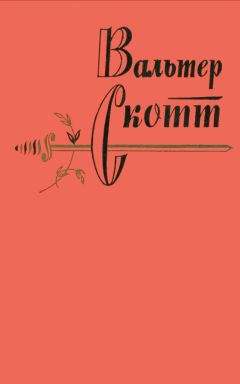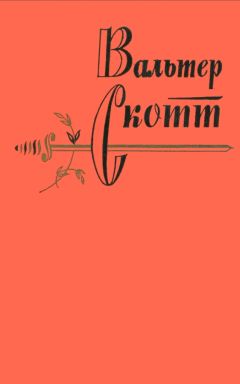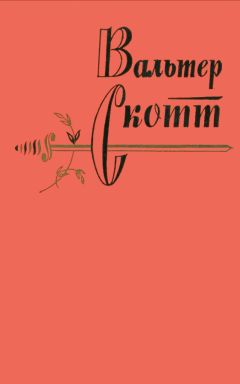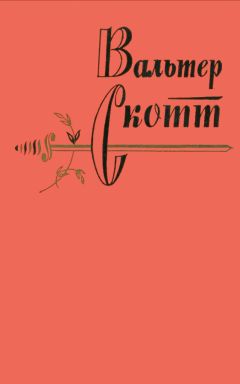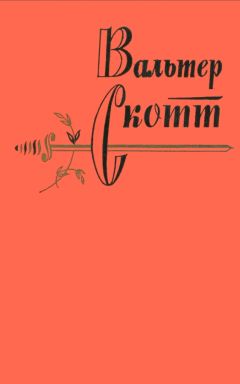Вальтер Скотт - Ламмермурская невеста
Я нарисовал бы ему такую картину несправедливости что его душа содрогнулась бы от ужаса.
— Возможно, — согласился Бакло. — Но старик тут же взял бы вас за шиворот и позвал бы на помощь слуг, и тогда, надо полагать, вы, в свою очередь, взяли бы и вытрясли из него эту самую душу. Да одного вашего вида вполне достаточно, чтобы запугать его до смерти.
— Не забывайте о тяжести его вины! Не забывайте, что его жестокосердие принесло нам гибель и смерть: он разорил наш древний род, он убил моего отца. В старину в Шотландии человек, который молча снес бы такие кровные обиды, считался бы не только недостойным руки друга, но даже шпаги врага.
— Признаюсь, Рэвенсвуд, приятно видеть, что черт умеет опутать других людей не хуже, чем тебя. Всякий раз, когда я собираюсь сделать какую-нибудь глупость, он неизменно уверяет меня, что в целом свете не найти поступка благороднее, разумнее и полезнее: я только тогда замечаю, куда я влез, когда уж по пояс увяз в трясине. Вот вы тоже могли бы сделаться убийцей, лишив человека жизни исключительно из уважения к памяти своего отца.
— Вы рассуждаете куда разумнее, чем, судя по вашему поведению, можно от вас ожидать. Вы правы: пороки прокрадываются к нам в душу в образах внешне столь же привлекательных, как те, которые, по мнению суеверных людей, принимает дьявол, желая овладеть человеком, и мы только тогда замечаем их, когда уже слишком поздно.
— Но в нашей власти отделаться от них, — возразил Бакло, — и я это обязательно сделаю, как только умрет леди Гернингтон.
— Вам известно выражение английского богослова: «Дорога в ад вымощена добрыми намерениями»? — заметил Рэвенсвуд. — Или, другими словами: мы чаще обещаем, чем выполняем?
— Ладно, — ответил Бакло, — я начну с сегодняшнего вечера. Клянусь, не пить зараз больше кварты, ну разве что ваше бордо окажется особенно вкусным.
— В «Волчьей скале» у вас вряд ли будет много искушений, — заверил его Рэвенсвуд. — Боюсь, что я могу предложить вам только кров. Все наше вино и съестные припасы уничтожены во время поминального пиршества.
— Дай бог, чтобы по такому поводу они вам подольше не понадобились вновь, — заметил Бакло. — Но зачем же было выпивать все до капли: это, говорят, приносит несчастье.
— Мне все приносит несчастье, — сказал Рэвенсвуд. — А вот и «Волчья скала». — Все, что еще осталось в замке, — к вашим услугам.
Шум моря уже давно возвестил путникам, что они приближаются к утесу, на вершине которого предок Рэвенсвуда, словно горный орел, свил себе гнездо.
Бледная луна, долго состязавшаяся с легкими облачками, теперь выглянула из-за них и осветила башню, одиноко возвышавшуюся на крутой скале, нависшей над Северным морем. С трех сторон скала. была почти отвесная, четвертую, обращенную к материку, некогда защищал искусственный ров с подъемным мостом, но мост сломался и разрушился, а ров почти совсем завалило, и теперь ничто не мешало всаднику проникнуть на узкий двор, застроенный с двух сторон службами и конюшнями, наполовину уже развалившимися; спереди, со стороны материка, двор заканчивался зубчатой стеной; с противоположной стороны высилась сама башня — высокая и узкая, с серыми каменными стенами, она при тусклом лунном свете казалась призраком в прозрачном одеянии. Трудно было представить себе жилище печальнее и уединеннее. Где-то далеко внизу слышался зловещий, тяжелый гул беспрестанно разбивавшихся о скалы волн, и этот звук, как и вся открывавшаяся взору картина, казался символом неизбывной тоски и ужаса.
Хотя сумерки только что сгустились, ничто в этом одиноком жилище не обнаруживало присутствия живого существа; только в одном из узких зарешеченных окон, прорубленных на разной высоте и на неравных расстояниях друг от друга, мерцал огонек.
— Это — комната единственного слуги, который еще остался в нашем доме, — сказал Рэвенсвуд. — Счастье, что он здесь. Не будь его, мы не нашли бы ни огня, ни света. Поезжайте за мной следом: дорога узка, и можно проехать только по одному.
В самом деле, тропинка шла теперь по узкой полоске земли, соединявшей материк со скалой, на дальнем конце которой стояла башня. Выбор места и стиль постройки говорили о том, что шотландские бароны больше заботились о неприступности жилья, чем о его удобствах.
Осторожно продвигаясь вперед, путники благополучно въехали во двор. Но прошло еще много времени, прежде чем усилия Рэвенсвуда, громко стучавшего в низкую входную дверь, увенчались успехом, хотя он не переставал звать Калеба, приказывая ему отпереть калитку и впустить их.
— Старик, должно быть, уехал, или с ним приключился обморок, — сказал наконец владелец этого мрачного жилища. — Даже семь эфесских, отроков проснулись бы от такого грохота.
Наконец послышался робкий, дрожащий голос:
— Мастер Рэвенсвуд, мастер Рэвенсвуд, это вы?
— Я, Калеб, я, отворите же поскорее.
— Вы ли это или дух ваш? Уж лучше бы мне явилось полсотни дьяволов, чем призрак моего господина или даже бессмертная его душа. Прочь! Прочь!
Будь вы стократ мой господин, я не пущу вас, если вы не человек из плоти и крови.
— Да я же это, я, глупый старик, — возразил Рэвенсвуд. — Из плоти и крови, живой, хотя и полумертвый от холода.
Свет в верхнем окне исчез и, постепенно снижаясь, замелькал то в одной, то в другой бойнице — очевидно, Калеб, несший лампу, спускался по винтовой лестнице, устроенной в одной из угольных башенок старого замка. Он шел очень медленно, и это вызвало несколько нетерпеливых восклицаний Рэвенсвуда и немало проклятий у его менее терпеливого и более пылкого спутника. Но прежде чем отодвинуть засов, слуга снова заколебался и еще раз спросил — действительно ли люди, а не бесплотные духи просят пустить их в замок в столь поздний час.
— Если бы я мог до тебя добраться, старый дурак, — воскликнул Бакло, — я бы тебе показал, какой я бесплотный дух.
— Отворяйте, Калеб, — приказал Рэвенсвуд более мягким тоном: во-первых, он привык уважать верного старого слугу, а во-вторых, возможно, понимал всю бесполезность угроз, пока между ними и Калебом находилась крепкая дубовая дверь, окованная железом.
Наконец, приподняв дрожащей рукой железный засов, Калеб отворил тяжелую дверь и предстал перед путниками. Это был худой белый как лунь старик с большой лысиной и крупными чертами лица, особенно четко выступавшими при свете мерцавшей лампы, которую он держал в правой руке, тогда как левой заслонял пламя от ветра. Испуганно-почтительные взгляды, которые он бросал вокруг себя, резкий контраст между ярко освещенным лицом и закрытыми тенью сединами могли бы послужить сюжетом для превосходной картины; но наши путешественники горели нетерпением укрыться от надвигавшейся бури, а потому не стали предаваться созерцанию его живописной внешности.