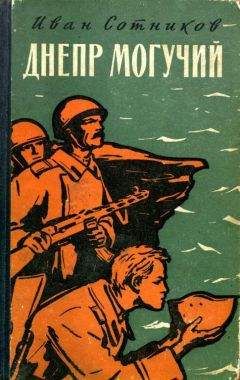Юрий Смолич - Ревет и стонет Днепр широкий
Раздетых Михаила и Леонида выволокли во двор. Леонид не стонал, вообще не подавал голоса — молча, спотыкаясь, падая под ударами прикладов и снова вставая, он шел как слепой. Михаил упирался, всхлипывал, охал, умолял. Во дворе его бросили прямо в снежный сугроб.
— Я не большевик… — лепетал Михаил, — я конституционный демократ…
Нольде остановился над скорчившимся в снегу телом Михаила и посмотрел на него с удивлением, словно не понимая, кто это и как тут очутился. Потом ткнул носком сапога:
— Пошел вон! Дурак!
Михаил поднялся, весь в снегу.
— Вон! — крикнул Нольде. — Кому говорю? На какого черта ты мне сдался… демократичный конституционат?..
Он отвернулся и пошел к воротам, на улицу.
— Руки связать! — приказал он.
Леонида держали за руки двое гайдамаков.
Нольде впереди, казаки с Леонидом — руки ему выкрутили за спину и связали его же ремнем — и вся ватага гайдамаков вышла на Кузнечную. Когда последний из них скрылся в подворотне, Михаил со всех ног бросился назад, домой, в свою разгромленную квартиру.
На улице Нольде приказал построиться: четыре гайдамака впереди, двое по бокам Леонида, остальные — сзади. Винтовки на руку. Идти по мостовой. Сам он, помахивая стеком, пошел по тротуару.
— Вы ответите перед народом! Вы… — крикнул Леонид.
— Заткните ему рот! — приказал Нольде.
Леониду сунули какую–то тряпку в рот и завязали сверху, чтобы не вытолкнул, рукавом, тут же оторванным от его собственной сорочки. И они пошли.
Прошли Кузнечную, миновали Николаевский парк против университета, пошли по Терещенковской, свернули на Фундуклеевскую…
«Не в Косый капонир… — мелькнуло в голове Леонида. — И не в Старокиевский… Выходит, и не на Лукьяновку… Куда же?..»
Гайдамацкие патрули, стоявшие на каждом углу в центре города, кидали вслед мрачной процессии глумливые реплики:
— Потащили раба божьего… Сейчас сделают ему чики–чики. Большевистский комиссар, должно… Дадут ему каши…
Дома по обе стороны улиц стояли молчаливые, темные, угрюмые. Была глубокая ночь. Киев спал. Или притаился.
Леонид думал: меня одного или еще кого–нибудь? Или, может быть, всех нас, большевиков?.. А! Прав был Иванов, надо было сразу уходить в подполье. Как же теперь будет с восстанием?.. Нет, нет, не может быть! Очевидно, только меня одного — как председателя ревкома, и товарищи сразу же переорганизуются…
С Крещатика свернули вниз по Александровскому спуску…
«Ничего не понимаю, — думал Леонид. — Куда? На Подоле ведь, кажется, нет тюрем. А может быть, в какие–нибудь гайдамацкие казармы? Допрашивать? Пытать…»
Сердце останавливалось. Холодело в груди. Было страшно, сосала тоска. Все тело пылало жаром, исполосованное до кровавых пузырей. Босые ноги немели на снегу.
С Александровского спуска свернули направо — по деревянной лестнице вниз, к памятнику крещения Руси. Памятник миновали и вышли на Набережную.
Почему на Набережную? Может быть, в Дарницу, в казармы франко–бельгийского гарнизона, союзников и покровителей Центральной рады?
Но направо, к Дарнице, не повернули. Теперь Нольде шел впереди, а вся гурьба плелась за ним. Гайдамаки переругивались, проклиная мороз, и притопывали сапогами. Нольде начал спускаться по уклону прямо к заледенелому руслу Днепра…
Странное дело, но глубокой, поздней морозной ночью, здесь, над закованным в лед Днепром вдруг послышалась песня. Пело несколько голосов, старательно, аккуратно выводя верха, затихая на низах. Где это? Откуда? С Труханова острова, из лагеря военнопленных? Но ведь там венгры, австрийцы. Они бы пели какую–нибудь свою. A тут — «Реве та стогне». Может, гайдамацкие патрули сошлись где–нибудь на берегу и затянули, чтоб размяться и согреться на морозе? Нет, патрулям петь никак нельзя. Кто же тогда? Может быть, на верфях — работает ночная смена, готовя флот к весенней навигации? Ведь недолго уже и до весны… Солнце, по крайней мере, уже повернуло к весне. Зима — на мороз, а солнце — на лето… Кто бы это мог петь зимней ночью в Киеве над Днепром? Певучий город наш Киев…
Отойдя от берега на несколько шагов, — лед под каблуками даже звенел, — Нольде остановился.
Разве не на тот берег?
— Пробивайте! — приказал Нольде.
Ах вот оно что!..
Леонид стоял и смотрел. Двое гайдамаков — один тяжелым ломом, другой обыкновенной саперной лопаткой, шанцевым инструментом — начали долбить лед: прорубь. Один долбил, другой выбирал осколки льда лопатой и отбрасывал прочь.
Лед был толстый — зима стояла морозная, уже продолбили и выбрали льда чуть не на пол–аршина, а до воды еще не добрались. Так рубят проруби — узкие и тесные — зимние рыболовы, чтоб ловить судаков на дергалку из–подо льда.
Леонид стоял и смотрел. Ноги его уже примерзли ко льду. Рубили ему ледяную могилу… Ему одному, или сейчас, в эту минуту, лед звенит по всему руслу Днепра: рубят еще десятки, сотни прорубей — ледяные могилы для большевиков?
Всплеснула вода — и гайдамак выругался: лом выскользнул у него из рук и сразу нырнул в днепровскую глубь.
Нольде ходил взад–вперед, притопывая ладными хромовыми сапожками, — ноги к черту замерзли; размахивал и хлопал себя руками по плечам, как делают извозчики, когда озябнут на козлах в ожидании клиентов–пассажиров…
Ах, горе какое! Рот завязан: нельзя и слова сказать — всему свету на прощанье, этим палачам–извергам на вечное проклятье… Леонид попробовал пошевелить языком, вытолкнуть тряпку изо рта — напрасно: рукав от сорочки крепко зажал его губы, впился плотным узлом в затылок. Проклятье! Он попробовал запеть — носом, без слов, одним звуком:
Вставай, проклятьем заклейменный…
— Что он там мычит? — сердито крикнул Нольде. — Уже готово?
— Готово, пан сотник!.. Мычит что–то… Может, допросите?.. Развязать?
Леонид молил взглядом: развяжите, развяжите! Запою…
— Не надо, шуму наделает… Рубите!
Гайдамаки обнажили шашки. Не стрелять же, чтоб поднять переполох. Тихо надо… Шашки взметнулись. Острые лезвия ударили по голове, по плечам, по спине…
Потом окровавленное тело столкнули в прорубь.
А песню — «Реве та стогне Дніпр широкий» — кто–то пел да пел. На Трухановом острове или в Матвеевой заводи, а может быть, на верфях…
Была уже поздняя, глубокая ночь… Днепр лежал, скованный льдом…
ЯНВАРЬ, 1
УКРАИНА НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ
1
И вот он шел мрачными вестибюлями, нескончаемыми коридорами, обширными залами и узкими переходами монументального творения Джакомо Кваренги, которое воссоздавало в русском зодчестве лучшие образцы архитектурного классицизма.