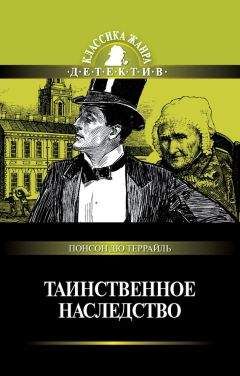Понсон дю Террайль - Подвиги Рокамболя, или Драмы Парижа
Он быстро повернулся к слуге.
– Но, – наконец сказал он, – каков собой этот молодой человек?
– Среднего роста, белокурый, тоненький.
– Антон знает его имя?
– Да, сударь, молодой человек дал ему карточку. Виконт д'Асмолль и ложный маркиз смотрели друг на друга с возрастающим недоумением. Жозеф продолжал:
– Отец Антон очень хороший человек, но он делает все так, как ему на ум попадет.
– Что же такое?
– Он пошел жаловаться, вместо того, чтоб ждать приезда господина маркиза… Воры, приехавшие в почтовой карете для похищения портрета, – не простые воры.
– Неоспоримо, – сказал Фабьен, – что хороший человек Антон – дуралей.
Жозеф принял таинственный вид и сказал шепотом Рокамболю:
– Если бы господин маркиз позволил мне сказать ему по секрету…
– Говори, – сказал Рокамболь, все более и более приходя в удивление.
– Я думаю, что вор очень дорожил портретом.
– А! Ты думаешь?
– И что он был способен на все, чтобы только похитить его.
– Черт возьми!
– Господин маркиз, – продолжал Жозеф, отойдя немного от Фабьена и говоря так тихо, что последний не мог его услышать, – господин маркиз возбудил в ком-нибудь несчастную страсть.
Рокамболь вздрогнул. С минуту он думал о Концепчьоне и вообразил, что она участвовала в похищении портрета.
– Этот белокурый тоненький молодой человек, – продолжал Жозеф, – это, может быть, была женщина.
Фабьен, подошедший к нему и расслышавший эти слова, захохотал.
– Ого, прошу покорно! – сказал он. – Я не ждал такого заключения.
Но при слове «женщина», при описании Жозефом наружности белокурого, тоненького, безбородого молодого человека Рокамболь, вместо того чтоб смеяться, почувствовал смертельный страх.
– Баккара! – подумал он.
– Как? – сказал Фабьен, взяв его руку. – Ты любим до такой степени!.. – И, наклонясь к его уху, он прибавил: – Но, несчастный, ведь ты женишься на Концепчьоне… и…
Фабьен не докончил. По аллее, идущей к замку, послышался конский топот, и Жозеф тотчас сказал: «Вот и господин Антон возвратился».
Действительно, старый управитель возвращался из ближнего города верхом на толстой кобыле.
– Загадка сейчас объяснится, – сказал Фабьен, потом он прибавил: – Добряк-старичок способен с ума сойти, увидев тебя. Жозеф, отведите маркиза в его комнату. Я пойду навстречу к Антону и вскоре все узнаю.
Рокамболь, мучимый мрачными предчувствиями, пошел за Жозефом, который отвел его в большую комнату, обитую голубыми обоями, в ту самую, о которой настоящий маркиз де Шамери так много говорил в своих записках, Рокамболь, знавший их наизусть, не забыл сказать, входя:
– Да, это та комната, в которой спала моя матушка.
– Да, сударь, – сказал Жозеф, – а вы – вы спали в этом кабинете.
– Помню.
Рокамболь подошел к окну и посмотрел при лунном свете на управителя, который слезал с лошади и, кланяясь Фабьену, спрашивал:
– Он здесь, не правда ли? Он здесь, мой молодой барин? О! Я знаю это, господин Фабьен, знаю. Вот посмотрите: в городе мне отдали письмо к нему, письмо, посланное из Парижа после вашего отъезда и адресованное в Оранжери.
– А откуда это письмо? – спросил Фабьен.
– Из Испании.
Рокамболь услышал это; он вскрикнул от радости и сказал Жозефу: «Беги, принеси мне скорей это письмо».
Письмо из Испании от Концепчьоны…
Концепчьона не перестала любить его…
Рокамболь забыл на минуту свой страх, свои угрызения, похищение портрета и Баккара, он все забыл, срывая печать с конверта письма, принесенного ему Жозефом, в то время как виконт д'Асмолль расспрашивал управителя замка Оранжери о похищении портрета.
Вот письмо Концепчьоны:
«Мой друг!
Уже прошла целая неделя с тех пор, как я писала вам.
Конечно, вы будете укорять вашу Концепчьону в том, что она забыла вас, и, однако, я должна сказать вам, что в продолжение этих дней, как и прежде, как и всегда, не проходило ни одной минуты в моей жизни, которая не принадлежала бы вам.
Мое последнее письмо из замка Салландрера. Мы прожили в нем шесть недель – я и моя мать, – оплакивая доброго отца, которого вы хорошо знали, молясь за него в надежде, что наши молитвы не нужны…
Бог принял его в недра свои, без сомнения, в тот самый час, как он умер.
Теперь, мой друг, я пишу вам из замка Гренадьер, из другого владения нашего семейства, где я провела свое детство, это владение находится между Кадиксом и Гренадой, в том раю мавров, который называется Андалусией. Здесь соединены все счастливые и несчастные воспоминания моего детства. Здесь, близ Гренадьер, был отравлен дон Педро братьями гитаны, любившей бесчестного дона Хозе и убившей его самого шестью годами позже.
Но успокойтесь, мой друг, я приехала в Гренадьер не с тем, чтоб искать воспоминаний о доне Педро. Мое сердце принадлежит только вам одному, и навсегда.
Я приехала сюда с матерью… отгадайте, мой друг, для чего… я приехала сюда с единственною целью поторопить нашу свадьбу.
Вы знаете, что испанские обычаи насчет траура очень строги.
В тот день, когда смерть постигла наш дом и сделала меня сиротой, я должна была сделаться вашей женой перед алтарем и перед людьми.
Ах! Если бы мой отец был властен над своей судьбой, если бы он мог продлить свою жизнь на несколько часов, он бы сделал это с единственной целью – оставить мне покровителя.
Увы! Богу не угодно было этого.
Когда я приехала с матерью в замок Салландрера, провожая смертные останки моего отца, мы были приняты моим двоюродным дядей, то есть племянником моей бабушки с отцовской стороны. Мой дядя, как вам известно, – гренадский архиепископ, то есть один из высочайших сановников испанской церкви.
Он читал службу во время печальной церемонии, предшествовавшей опущению трупа в склеп замка Салландрера. Он прожил с нами неделю, оплакивая вместе с нами умершего. Потом, накануне своего отъезда, он имел с матерью разговор, цель и результат которого я узнала только на этих днях.
– Милая кузина, – сказал он моей матери, – скоропостижная смерть герцога поставила вас в тягостное и исключительное положение перед вашей дочерью. Концепчьона должна была в этот самый день выйти замуж за маркиза де Шамери, как вдруг смерть похитила вашего супруга. Она любила своего жениха? Не правда ли?
На это мать моя отвечала:
– Она любила его до безумия, до такой степени, что я боюсь за ее здоровье и за ее разум, с тех пор как этот брак был отложен на несколько месяцев.
– Кузина, – отвечал архиепископ, – церковный закон в Испании назначает в этом случае, по меньшей мере, два с половиной месяца сроку.
– Знаю, – сказала мать моя.
– Но кроме церковного закона, – продолжал архиепископ, – существует другой закон, еще строже церковного, это – обычай или, лучше сказать, то, что называют приличием.