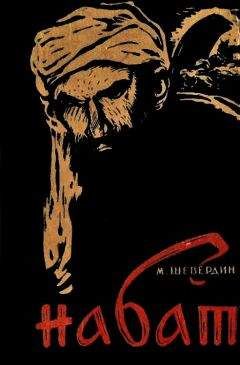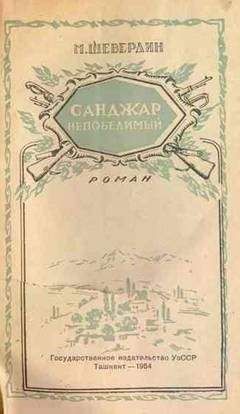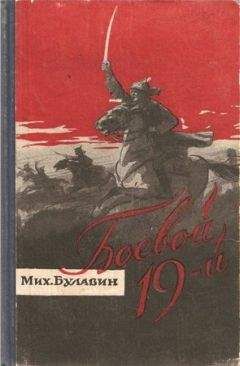Михаил Шевердин - Набат. Агатовый перстень
Караван ушёл, и остался пепел костров.
Рейхани
Доктор открыл глаза без вздоха, без движения.
Ночь.
Он смотрел и думал: «Почему он проснулся?» И снова мысли о ней, мрачные мысли.
В открытой двери в глубине чёрно-синего неба мигали звёзды. Временами лица касалось жаркое дыхание гармсиля.
Колебание световых пятен на тёмном потолке заставило доктора посмотреть на чираг. Пламя горело большим жёлто-кирпичным огоньком и чуть чадило. В чираге оставалось совсем мало масла.
Значит, прошло по меньшей мере уже часов пять, Пётр Иванович часто измерял по ночам время по чирагу. Часы свои он разбил уже много месяцев назад.
Пять часов прошло. По-видимому сейчас час ночи или что-то вроде этого...
— Э, что там такое.
Сквозь шум ветра доктор явственно услышал топот коня. Он сбросил с се-бя одеяло и подбежал, как был в одном белье, к двери. Взявшись руками за косяки, он вслушался в темноту
Топот приближался.
В темноте замаячило белое живое пятно. Почти сейчас же прозвучал гортанный говорок Алаярбека Даниарбека.
— Пётр Иванович, ты спишь? Это я приехал.
Подняв высоко сальную свечу, доктор старался осветить хоть кусочек двора у самого айвана.
По тону он сразу понял: Алаярбек Даниарбек вернулся в состоянии встрепанных чувств. Когда свет чирага упал на него, Петр Иванович удивился. Маленькая, всегда такая аккуратная чалма Алаярбека Даниарбека, похожая на слоеный шахризябский пирожок, утратила свои приглаженные формы и стала похожа на небрежно намотанную на чурбак волосяную толстую верёвку. Круглая борода топорщилась чёрными вперемешку с седыми волосами, усы обвисли, а глаза бегали, точно жуки, в желтоватом масле белков. Случилось что-то из ряда вон выходящее.
— Ну? — спросил Пётр Иванович по обыкновению лаконично.
Не удостоив доктора ответом, что само по себе говорило о крайне возбужденном состоянии Алаярбека Даниарбека, он слез со своего Белка и повёл его к коновязи. Но стоило посмотреть, как он его вёл. Он дергал за повод своего несчастного любимца так, как будто тот был необъезженным степным тарпаном-джигитаем, а не обыкновеннейшей домашней лошадкой. Несчастный Белок ошалело вздергивал голову и метался во все стороны. С садистским удовольствием Алаярбек Даниарбек принялся гонять своего конька камчой, проклиная и ругаясь.
— Проклятие твоему отцу, ублюдок, собака и шакал! Подохни ты молодым! Стой! Чего встал!
С минуту доктор смотрел на неистовствовавшего в сумраке Алаярбека Даниарбека, пожал плечами и пошёл к двери.
— Э, хозяин, — только теперь спохватился Алаярбек Даниарбек, — почему ты уходишь?
Пётр Иванович остановился и выжидательно смотрел.
— Неужели я, несчастный, трясся в седле целые сутки, терпел муки голода, умирал от жажды, испытывал опасности только для того, чтобы мой хозяин повернулся ко мне спиной... Несчастный я... Посыплю я голову прахом, перепояшусь верёвкой и пойду на поклонение в Мешхед к гробнице восьмого имама Али-бен Мусе-ар Риза... И стану я «мешхеди» — уважаемым человеком, свершившим паломничество в Мешхед... Да станет благоустроен дом доктора, о Белок. Тот не достигает отдыха, кто не трудится... А я много трудился и устал... Устал я бегать по свету. Я заслужи отдых. Кому счастье суждено, того счастье разыщет, если даже он и не ищет сам его... Конечно, Белок, больше я не путешественник... Вернусь в Самарканд, пойду в хаммом, и мне банщик шерстяными рукавицами ототрёт грязь с усталых подошв... А диктор? Скажешь ты, мой Белок? Да будет счастье с ним неотлучно!.. Хоть и несправедлив он к нам, несчастным.
И хотя, судя по всему, риторический вопрос Алаярбек Даниарбек задал, очевидно, бессловесному Белку, доктор не без досады заметил:
— Ну, господин Алаярбек Даниарбек, если вы имеете что-либо сказать, — говорите, если нет — я уйду. Я спать хочу.
— Он уйдёт, вы слышите. О аллах, запрети гневу входить в моё сердце — и ссоры не будет.
— Да будете вы, наконец, говорить? Что-нибудь вы узнали?
— Сердце его поднимается по ступеням гнева! Горе мне. О как отрадно и блаженно мгновение, когда друг был другом.
— Ффу, давайте лучше чайку вскипятим, — не удержался Пётр Иванович и спокойно спросил: — Дорогой Алаярбек Даниарбек, ишан сказал нам что-нибудь?
Подойдя вплотную, Алаярбек Даниарбек засунул по обыкновению пальцы за поясной платок и, выпятив свои толстые губы, важно объяснил:
— Какой ишан? Было два ишана, а теперь ни одного не осталось.
— Вот тебе и на! — удивился Пётр Иванович, разжигая сучья в очаге.
Пока разгорался огонь и закипала вода в обджуше, Алаярбек Даниарбек рассказывал:
— Один ишан помер, пришёл другой ишан. Город Кабадиан осчастливлен был пребыванием знаменитейшего Сеида Музаффара. Мертвого похоронили, живой пришёл. Только теперь живой ишан исчез, убрался, удрал, ускакал, вознёсся живым на небо. А теперь туча маленьких ишанов набежала и вытащила дохлого Амирджанова из кучи навоза, куда его затолкал ишан Сеид Музаффар, и прославила.
После внезапного отъезда ишана и доктора в ишанское подворье собрались со всего Кабадиана муллы, имамы, суфии, настоятели мечетей, бродячие монахи и прочие лица, причастные к делам религии, и, похоронив с почётом Амирджанова, поставили над его могилой туг — шест с ячьим хвостом, объявили могилу его источающей чудеса. На могиле по ночам горит свет и слышатся голоса ангелов. Амирджанов стал святым, поскольку, принявший свет истинной религии, пал он за веру. Имамы гонят людей совершать паломничество на могилу святого, но в народе прозвали его ишан-навоз, а кто-то из почитателей, то ли из религиозного усердия, то ли издеваясь, воткнул в могильную насыпь те самые навозные вилы, которые стали столь нежданно орудием гибели новоявленного хазрета.
— А ишан? Ты нз видел ишана? Что с ним?
— Хозяин, — возразил Алаярбек Даниарбек, — клянусь двенадцатью имамами, столпами ислама, у меня только один-единственный язык и одна голова, чтобы я мог ответить сразу на столько вопросов. Ишан, как уехал тогда, так и не вернулся.
— А что ты узнал о Жаннат?
Алаярбек Даниарбек впал в полное расстройство. Губы его шлепали, и горло издавало невнятные звуки, руки заходили ходуном.
— Жаннат оказалась аджиной.
— Вы окончательно рехнулись, дорогой Алаярбек Даниарбек.
— Нет, клянусь.