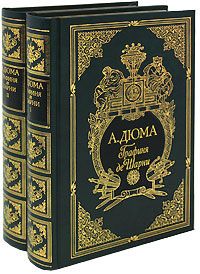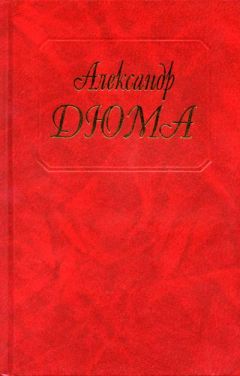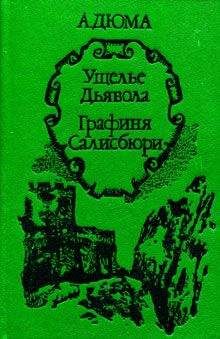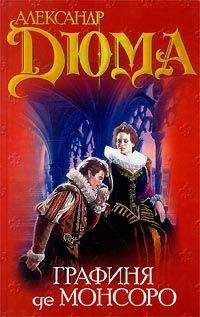Александр Дюма - Графиня де Шарни. Том 1
— Это мне тоже нравится, — дочитав до конца, сказал король, — но если этим отрядам придется простоять в этих городах и деревнях день, два, три дня, каким предлогом можно оправдать их присутствие?
— Государь, предлог имеется: им будет приказано ждать охраняемую карету с деньгами, посылаемыми на Север военным министерством.
— Ну что ж, — с нескрываемым удовлетворением произнес король, — все предусмотрено.
Шарни поклонился.
— Кстати, о деньгах, — сказал король, — вы не знаете, получил господин де Буйе тот миллион, что я ему послал?
— Да, государь, только известно ли вашему величеству, что этот миллион был в ассигнациях, которые на двадцать процентов обесценились?
— Но хотя бы с учетом этой потери он смог их получить?
— Государь, прежде всего один преданный вам подданный вашего величества почел за счастье выдать взамен ассигнаций сумму в сто тысяч экю без всяких вычетов, разумеется.
Король взглянул на Шарни.
— А остальное, граф? — спросил он.
— Остальное, — отвечал граф де Шарни, — учел господин де Буйе-сын у банкира своего отца, господина Перго, который выдал ему всю сумму векселями на имя господ Бетман во Франкфурте, которые приняли эти векселя к уплате. Так что денег теперь вполне достаточно.
— Благодарю вас, граф, — сказал Людовик XVI. — А теперь назовите мне имя того преданного человека, который, расстроив, быть может, свое состояние, выдал господину де Буйе эти сто тысяч экю.
— Государь, этот преданный слуга вашего величества очень богат, а потому в его поступке нет никакой заслуги.
— Тем не менее, сударь, королю угодно знать его имя.
— Государь, — с поклоном возразил Шарни, — он оказал эту ничтожную услугу вашему величеству с единственным условием: чтобы его имя не называлось.
— Но вы-то его знаете? — спросил король.
— Знаю, государь.
— Господин де Шарни, — произнес король с той сердечностью и достоинством, которые проявлял подчас, — вот кольцо, оно мне очень дорого…
— И он снял с пальца простое золотое кольцо. — Я снял его с пальца моего умирающего отца, когда целовал его холодевшую руку. Его ценность в том, что я с ним связываю, оно не имеет другой цены, но для сердца, которое сумеет меня понять, оно станет дороже самого дорогого бриллианта. Перескажите моему верному слуге то, что я сейчас вам сказал, господин де Шарни, и передайте ему от меня это кольцо.
Из глаз Шарни выкатились две слезы, дыхание его стеснилось, и, трепетно опустившись на одно колено, он принял из рук короля кольцо.
В этот миг дверь отворилась. Король торопливо оглянулся: отворившаяся дверь была столь явным нарушением этикета, что это происшествие можно было расценивать как страшное оскорбление, если только оно не оправдывалось насущной необходимостью.
То была королева; она была бледна и держала в руках лист бумаги.
Но при виде коленопреклоненного графа, целующего кольцо короля и надевающего его себе на палец, она вскрикнула от удивления и выронила бумагу.
Шарни встал и почтительно поклонился королеве, которая, едва шевеля губами, пробормотала:
— Господин де Шарни!» Господин де Шарни!» Вы здесь, у короля, в Тюильри?.» — И совсем тихо добавила: — А я даже не знала!
И в глазах у бедной женщины застыла такая боль, что Шарни, не расслышавший конец фразы, но угадавший его, сделал по направлению к ней два шага.
— Я сию минуту приехал, — сказал он, — и хотел спросить у короля дозволения засвидетельствовать вам свое почтение.
На лицо королевы вернулся румянец. Она уже давно не слышала голоса Шарни и тех нежных интонаций, что прозвучали в его голосе.
И она простерла вперед обе руки, словно хотела идти ему навстречу, но тут же прижала одну из них к сердцу, которое, вероятно, билось слишком бурно.
Шарни все видел, все угадал, хотя на эти переживания, описанию и истолкованию которых мы уделили десять строк, ушло не больше времени, чем потребовалось королю, чтобы подобрать в дальнем конце кабинета листок, выпавший из рук королевы и подхваченный сквозняком, который поднялся, когда одновременно оказались открыты окно и двери.
Король прочел то, что было написано на этом листке но ничего не понял.
— Что означают эти три слова: «Бежать! Бежать! Бежать!… — и этот оборванный росчерк? — спросил король.
— Государь, — ответила королева, — они означают, что десять минут назад умер господин де Мирабо, а это совет, который он дал нам перед смертью.
— Государыня, — подхватил король, — мы последуем этому совету, потому что он хорош и на сей раз пришло время его исполнить.
Потом, обернувшись к Шарни, он продолжал:
— Граф, вы можете проследовать за королевой в ее покои и все ей рассказать.
Королева встала, устремила взгляд на короля, потом на Шарни и, обращаясь к последнему, произнесла:
— Пойдемте, граф.
И стремительно вышла: промедли она хоть минуту, ей было бы уже не по силам сдержать все противоречивые чувства, раздиравшие ей сердце.
Шарни в последний раз поклонился королю и последовал за Марией Антуанеттой.
Глава 18. ОБЕЩАНИЕ
Королева вернулась к себе в покои и опустилась на канапе, знаком велев Шарни затворить дверь.
К счастью, в будуаре, куда она вошла, было безлюдно: перед этим Жильбер испросил позволения поговорить с королевой наедине, чтобы рассказать ей, что произошло, и передать ей последний совет Мирабо.
Едва она села, ее переполненное сердце не выдержало, и она разразилась рыданиями.
Эти рыдания, столь бурные, столь искренние, разбередили в глубине сердца Шарни остатки былой любви.
Мы говорим об остатках былой любви, потому что когда страсть, подобная той, которую мы наблюдали, пока она зарождалась и росла, перегорает в сердце человека, то, если только какое-нибудь ужасное потрясение не превратило ее в ненависть, она никогда не угасает бесследно.
Шарни был в странном состоянии, которое может понять только тот, кто сам пережил нечто подобное: в нем уживались и старая, и новая любовь.
Он уже любил Андре всем своим пылким сердцем.
Он еще любил королеву всей своей сострадающей душой.
Всякий раз, видя муки, терзавшие несчастную влюбленную женщину, муки, причиной которых был эгоизм, то есть чрезмерность этой любви, он словно чувствовал, как кровоточит ее сердце, и всякий раз, замечая ее эгоизм, как все те, для кого минувшая любовь превратилась в бремя, не находил силы простить ей этот эгоизм.
И все же всякий раз, когда это горе, такое искреннее, без обвинений и упреков, изливалось перед ним, он постигал всю глубину ее любви, напоминал себе, сколько человеческих предрассудков, сколько светских обязанностей презрела ради него эта женщина, и, склонившись перед этой бездной горя, не мог удержаться от слез сочувствия и утешительных слов.