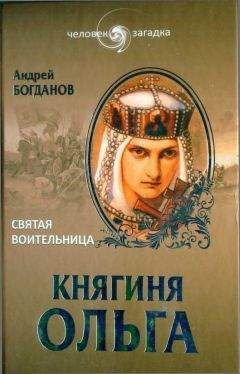"Княгиня Ольга". Компиляция. Книги 1-19 (СИ) - Дворецкая Елизавета Алексеевна
– А если он все же одолеет?
– Самое меньшее, чего мы добьемся – ни один греческий поп еще сто лет не осмелится сунуть сюда нос. А это уже немало, и этого я добьюсь, иначе пусть проклянет меня преподобная Лиоба Бишофсхаймская!
– Но если мы все же попадемся! Рихер, ты задумал что-то немыслимое!
– Попадемся? – Рихер вскочил и подался к Хельмо, всем видом выражая яростную готовность немедленно вступить в драку. – Если ты трус, то зачем сюда поехал? Сидел бы дома! Пошел бы в монахи и принимал исповедь у хорошеньких распутниц, как вот этот…
Рихер оглянулся на отца Теодора – тот безмятежно спал, уронив голову на стол…
Почти весь следующий день Торлейв провел у Эльги и дождался-таки: около полудня Гутторм и Грядоша принесли и с гордостью выложили перед княгиней заново изготовленные ножны для меча Ахиллеуса. Золотые чеканные пластинки с подвигами греческого героса [683] выпрямили, начистили до ярчайшего блеска, укрепили на заново вырезанной деревянной основе, и теперь ножны выглядели точно так же, как вышли из рук бога-кузнеца невесть сколько веков назад. Когда княгиня и ее приближенные заново подивились, кузнецы заботливо завернули ножны и отвезли на Свенельдов двор. Лют еще работал, дочищая остатки ржавчины тряпкой, на которую был наклеен мелкий песок. Лишь когда солнце, еще яркое, чуть притушило блеск, собираясь на недолгий отдых, все трое отправились к торжку, где стояла Святая София.
Вызвали отца Ставракия, он отпер церковь. Лют передал ему обновленный меч. Попросив вынуть из ножен, отец Ставракий осмотрел древнее железо. Когда счистили толстый слой ржавчины, клинок под ним стал тоньше и, с выщербленными краями, для сражений уже не годился. Но не в том была его ценность. С трепетом взяв его в руки, отец Ставракий положил меч Ахиллеуса на край амвона.
– Ступайте, чада, – сказал он, забыв, что из этих троих крещен только Гутторм. – Буду молиться… чтобы Господь укрепил и вразумил… Завтра обедню отслужу, освятим, тогда и забирайте.
– Не мы – Пестряныч-младший с братьями приедет, – поправил Лют.
Но отец Ставракий его едва услышал и слабо замахал рукой: ступайте. В большом смятении, он хотел остаться один – не столько с мечом, сколько с Богом. Отрицать Божью волю в этой находке он не мог, но все же его смущало: вручить князю-язычнику меч героса-язычника – доброе ли дело для христианского пастыря? Было бы Святое копье или еще какая христианская святыня – было бы понятно, на что Господь указует. Но что такое эта находка, сомневаться не приходилось. И в школе в Никомедии, и в университете в Константинополе будущем иерею приходилось читать и Гомеров «Илиас», и другие языческие стихи, где излагалась история Фетиды, Ахиллеуса, его ферапона Патрокла – за неимением подходящего слова в славянском языке Патрокла приходилось именовать то другом, то побратимом [684].
Глядя, как сокровище лежит на краю амвона, ярко блистая в свете свечей, отец Ставракий начал молиться, но острая жажда понять замысел уводила мысль прочь от привычных слов. Вот он лежит, ксифос из волотовой могилы, такой же яркий, драгоценный, будто и не прошло две тысячи лет. Так же и слава Ахиллеуса ничуть не померкла и вспыхнула даже здесь, вырвалась из-под земли, как лава из вулкана, в далеком краю северных скифов. Но что в этой славе? Гомер воспел Ахиллеуса, а итог его жизни подвел Лукиан из Самосаты в своих «Разговорах в царстве мертвых». Антилох, Несторов сын, друг ближайший Ахиллеуса после Патрокла, в царстве Аида обращается к нему с такой речью:
«Я слышал, как ты сказал, что хотел бы лучше живым служить поденщиком у бедного пахаря, который „скромным владеет достатком“, чем царствовать над всеми мертвыми. Такие неблагородные слова приличны, быть может, какому-нибудь трусу-фригийцу, чрезмерно привязанному к жизни, но сыну Пелея, храбрейшему из всех героев, стыдно иметь такой низменный образ мыслей. Этого никак нельзя согласовать со всей твоей жизнью: ведь ты мог бы долго, хотя без славы, жить и долго царствовать во Фтиотиде, однако ты добровольно избрал смерть, соединенную со славой».
На это Ахиллеус отвечает ему:
«О, сын Нестора! Тогда я еще не знал, как здесь живется, и эту жалкую, ничтожную славу ставил выше жизни, так как не мог знать, что лучше. Теперь же я понимаю, что как ни много будут там, на земле, меня воспевать, все равно от славы мне никакой пользы не будет. Здесь я ничуть не выше других мертвецов, нет больше ни моей красоты, ни силы; все мы лежим, покрытые одним и тем же мраком, совсем одинаковые, и ничем друг от друга не отличаемся. Мертвые троянцы не боятся меня, а мертвые ахейцы не оказывают уважения; мы все здесь на равных правах, все мертвецы похожи друг на друга» [685]…
Антилох, сколь ни был он разумен, не смог предложить герою иного утешения, кроме совета повиноваться закону природы и не смешить другие тени, высказывая такие недостойные желания. Ни один из них, увы, еще не знал о вечной жизни, какую дарует христианская вера. О вечной жизни и совсем другой славе, какой в царстве божьем будет удостоен тот самый поденщик бедного пахаря, с которым Ахиллеус хотел бы обменяться. Так может, он, сын богини и несостоявшийся соперник самого Зевса, предвидел ту высшую славу поденщиков и пахарей, для которой вовсе не нужно потрясать копьем и криком сокрушать вражеские полчища? Предвидел и жалел, что не узнал света и вынужден влачить свою посмертную вечность во мраке и бессилии?
И не было ли явление Ахиллеусова меча истинным знаком Святославу о Божьей воле, предупреждением, указанием на урок, какой он должен извлечь из Ахиллесовой жизни, понять тщету славы, которую жаждет унаследовать…
Рассказать ему об этом! Завтра передать Торлейву – он крещен, он умный парень, он поймет и сможет донести до гордого своей силой упрямца, что вовсе не для того ему Господом послан этот ксифос, чтобы себя самого воображать полубогом…
И отец Ставракий принялся горячо молиться – в благодарность за откровение, посланное ему, прося сил донести его до сердец язычников.
Когда под вечер Торлейв вернулся домой, во дворе к нему сразу бросилась Влатта.
– Я не виновата! – выстрелила она, цепляясь за повод его коня. – Я его не звала, он сам!
– Кто – сам? – Торлейв спрыгнул с седла. – Ты о чем?
– Приехал Хельмо! – страшным шепотом ответила Влатта. – Спросил тебя. Сидит в избе с госпожой. Я с ним слова не сказала, клянусь, только кивнула, и все!
Торлейв слегка переменился в лице. С тех пор как обнаружилась кража пергамента, Хельмо к нему не приезжал, и теперь он сразу насторожился: чего хитрому немцу опять нужно? Но открытого объяснения между ними не было, Хельмо может думать, что его шалости остались неизвестными. Вот пусть и дальше так думает.
В избе Хельмо поднялся ему навстречу, Торлейв широко улыбнулся и сразу заметил, что гость выглядит огорченным.
– Салве! – по их обыкновению приветствовал его Хельмо.
– Хайре! [686] – горделиво бросил в ответ Торлейв, показывая превосходство своей мудрости, но сейчас Хельмо не улыбнулся в ответ. – Что привело тебя под мой кров в этот предзакатный час, амикус меус?
– Мне надобна небольшая твоя помощь. – Хельмо был явно смущен. – Дозволь мне провести ночь у тебя в доме.
– Что случилось? – Торлейв искренне удивился. – Отец Теодор набрал сотню гостей, они поют и пляшут, не давая тебе спать?
– К этим гостям я привык. – Хельмо все же улыбнулся. – Я нынче повздорил с Рихером. Или он со мной. Выбранил меня, как мальчишку. Дескать, все мои заслуги – что я крестник госпожи Матильды… Он очень надменный человек, хоть и любезный по виду. Не хочу оставаться там сегодня. Утром пойду назад, он уже придет в себя.
– А не врешь ли ты, амикус меус? – Торлейв выразительно прищурился. – Можешь, конечно, остаться. Но сдается мне, ты за другим пришел.