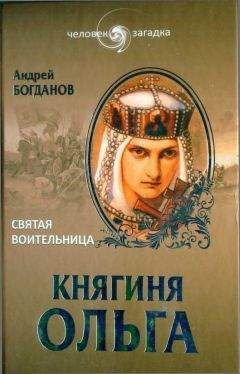"Княгиня Ольга". Компиляция. Книги 1-19 (СИ) - Дворецкая Елизавета Алексеевна
– На торгу разиням заливай! Но как же она тогда винилась? Со сломанной шеей?
– Это дело нужно похоронить поскорее, вместе с бабкой, чтобы больше болтовни об этом не было. Бабка повинилась – и добро на том [647]. – Мистина развел руками.
– Так ты сам все придумал? Но кто же тогда ее упокоил?
– Не знаю. Альв сказал, свернули шею бабе чисто, умело, побоев больше никаких. Боюсь, как бы Красен не проведал. Кого удавили, а кому шею свернули – он отличит, не дитя. Только и надежды, что его сыновнее почтение удержит, осматривать не будет. Я туда первыми Забироху с Улеей послал, чтобы тело обмыли и одели, а другие чтоб ее не трогали.
– Но почему ты хочешь это скрыть? – Эльга заглянула ему в глаза, не понимая, с чего Мистина так решительно гасит все замятню. – Это ради… Гримкеля? Чтобы его вдову не мурыжили и имя его честное не трепали?
Мистина глубоко вздохнул и прошелся по избе – таким же неслышным, как у рыси, шагом, не отяжелевшим с годами.
– Был бы Гримкель жив, он бы свою ораву бесячью придержал бы… Но не только ради него. Вот еще что есть.
Подойдя к Эльге, Мистина вынул из угорской сумочки на поясе что-то маленькое и положил ей на колени.
– Это что? – Эльга взяла в руки два кусочка светлого серебра.
– У бабки нашли, в горшке было зарыто. Сверху лежало. Об этом никто не знает, кроме Альва и меня.
Эльга повертела кусочки, пытаясь понять, чего в них такого особенного. Мистина подсел к ней и сложил кусочки вместе, так что они образовали серебряный кружок из двух неровных частей.
– Видишь – крест? Вот еще кресты. А это надпись. Вот эти знаки – «ОДДО». А тут, на другой стороне – «Колониа».
– Что сие значит? – Эльга подняла взгляд к его серым глазам.
– «Оддо» – Оттон. «Колонь» [648] – город, где сии денарии бьют.
– А ты откуда знаешь?
– Тови показывал, он разобрал. Говорит, от немцев научился по-латински читать, пока им хазарские речи на воске чертил, но понимает мало что.
– А откуда у Оттона серебро? – Эльга нахмурилась. – Из нашего свои шеляги бьет?
Под «нашим» серебром Эльга имела в виду сарацинские дирхемы, в великом множестве привозимые на Русь в обмен на меха и отправляемые дальше на север и запад.
– Нет, у Оттона теперь свое серебро есть. В горах нашли. Немцы и рассказали, как у меня были. Его еще мало, только начали добывать, но если там залежи хорошие, как у чехов, то скоро наше серебро им будет без надобности.
Эльга посмотрела на денарий в своей руке – первый вестник этих грядущих перемен.
– Но вот это уже здесь! И это значит…
– Сие серебро – бабке плата. Не бес же Ортомидий ей платил! Ему бы она сама скорее заплатила.
– За жаб плата? За чары?
– Ну да. От того ётунова гада, кому те жабы были нужны.
– Ей заплатили Оттоновым серебром? И почему ты хочешь это скрыть? Ведь выходит – немцы? – Эльга выпрямилась, так ее поразило это открытие. – Но к чему им?
– Вот потому я и молчу пока, что не знаю – к чему. – Мистина встал и снова прошелся по избе. – Можно их, конечно, в поруб взять. Не пожелают за добра ума [649] говорить – под кнутом заговорят. Но я бы с этим не спешил.
– Чего они хотят? Что им до Вуефаста?
– Вот и я не знаю! – Мистина повернулся к ней. – А мне страсть как любопытно! Жабы были на остуду. Статочно, хотели Гостяту с Витлянкой развести. Но зачем? Что Оттону до нашей каши? Он на Адельхайд женат! Наши ее видели в ту зиму – говорят, красавица истинная.
– Затем, чтобы ты с Вуефастом не породнился и мы со Святшей так и бодались, пока я не помру.
– Похоже на то. Не знаю, чего от нас хочет Оттон, но чем мы слабее, тем ему веселей.
– Адальберта выгнали, потому что Святша был недоволен. Он Оттону об этом рассказал, когда оправдывался в неуспехе. Оттон знает – Христовой вере на Руси мешает Святша. А если мы с ним примиримся и через вас с Вуефастом оба двора еще раз породнятся – епископам стоит и дорогу сюда забыть. Если будут на Руси Христовы люди прибывать – то греки.
– А Оттон Роману соперник, – подхватил Мистина. – Опять, выходит, два цесаря через нас между собой ратятся. Опять из нас хотят дубинку сделать, и обоим та дубинка нужна.
– Так не взять ли тебе их в поруб, хитрецов этих? Не спросить ли, чего задумали? Они здесь человека убили! С этим, – Эльга показала обрубки денария, – уже можно и взять. Ведь в Киев никто больше Оттонова серебра не привозил?
– Прикажи – сделаю. Святша только рад будет. Но я бы повременил.
– Почему?
– Как они так быстро догадались, что им опасны я, Вуефаст, свадьба? Они ж к нашему сговору дня два здесь провели. Виделись со Станимиром и Тови, но те с ними не говорили о наших делах.
– Хочешь узнать, кто им пособник?
– И это тоже. Пусть погуляют. Только я за ними смотреть велел. Куда ходят, с кем видятся.
– С Предслава чадью они видятся, это даже я знаю. Вроде бы, и чего – они все Христовы люди. Да, а греческие письмена-то при жабах откуда? – вспомнила Эльга. – Немцы не знают по-гречески, Тови уверен. Разве что лгут, скрывают…
– Я и думал: письмена не от них, а от пособников. Найти бы того грамотея, ётуна мать, сразу бы во всем этом деле просветление наступило! Везде уже я его искал – у жидинов и моравов. И откуда немцы столько знают, и кто им здесь помогает. Как немцы эту Плынь-то отыскали, жабу старую?
Они помолчали.
– Как Витляна? – спросила Эльга. – Повеселела? Хорошо, жаб нашли быстро, сожгли, они ей повредить не успели, а как Плынь померла, теперь и вовсе вреда не будет.
– Да я б не сказал, что повеселела.
– Что с ней?
– Если Гостяту если при ней поминают – кривится. Говорит, я как о нем подумаю, жабы мерещатся. Это она Величане признавалась. Как бы нам те жабы свадьбу не расстроили. Если и Гостяте жабы мерещатся – что же у них за жизнь будет?
– Значит истово – у бабы пособник остался… Затаился… И не он ли ей шею-то свернул?
– Либо тот, кто платил, либо то, кто заклятье писал. Если это не одна и та же харя.
– Видно, что жабы мерещатся – это знак. Найди его, тогда и жабы из глаз пропадут.
Бабу Плынь схоронили, и следующей же ночью ее изба загорелась. Хорошо, избенки близ выпасов были разбросаны далеко, ночь выдалась безветренная, и на соседей не перекинулось. Киев снова загудел от разговоров. Соседи наперебой рассказывали, что видели посреди ночи огненного змия летяща, над крышей Плыни тот рассыпался искрами, и мигом избы вспыхнула сверху донизу. И что, мол, вой стоял, пока горела – это невидимцы бабкины выли, а теперь, мол, пойдут себе нового хозяина искать.
Еще пока от пожарища тянуло гарью, к Эльге заявился диакон Агапий, тоже грек. Он был куда моложе Ставракия – на третьем десятке лет, весьма высок ростом, но такой худой, что его пояс не сошелся бы даже на Витляне. На простом лице со смирным выражением выделялись черные дугообразные брови, которые при его бесцветной внешности казались взятыми у кого-то поносить. Гриди и даже челядь меж собой называли его «глистом бровастым». С утра до ночи он молился про себя, беззвучно шевеля губами, и за этот неслышный разговор невесть с кем на него смотрели с подозрением.
– Архонтисса, кириа Элене, с нашим пресвитером беда! – объявил Агапий, гибким привычным движением поклонившись. – Мне сказала пресвитера Платонида, он болен.
– Кириэ элейсон! Что с ним такое? – огорчилась Эльга.
– Он сидит, не ест, не пьет, не отвечает и только молится над своей Псалтирью. Митера [650] Платонида молит тебя прийти и помочь ему.
Встревоженная Эльга быстро собралась и верхом, с тремя бережатыми, поехала к отцу Ставракию. Путь от Святой горы был недалек: папас жил на дворе, нарочно для него и диакона выстроенном близ церкви Софии.