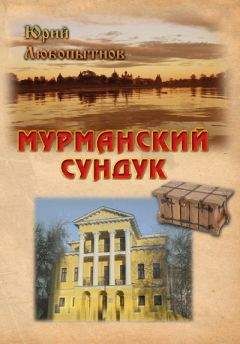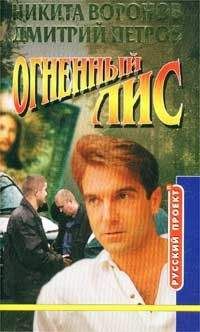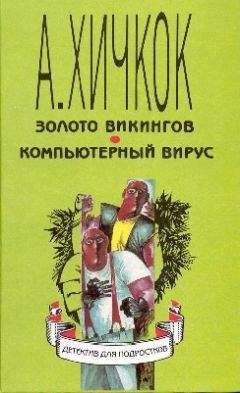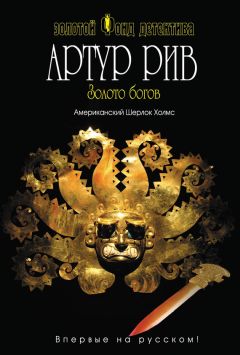Юрий Любопытнов - Огненный скит
Но Глеб упрямился и не отдавал гармонь.
Отец Николай, засучив рукава рясы, тыкал вилкой в селёдку, и его круглые глаза поглядывали на шумных мужиков. Он выпил очередную рюмку, отёр губы и усы рукой и подвинулся на свободный конец лавки.
— Дай-кось гормозу, — обратился он к Глебу и протянул руки.
— А ну, отче, сыграй! — хохотнул Венька. Поп ему нравился — простецкий.
Глеб протянул гармонь отцу Николаю.
— Пожалуй, батюшка…
Отец Николай удобнее устроился на лавке, тронул пуговицы. Широко и вольно зазвучал вальс. Музыка пьянила, кружила головы. Вокруг отца Николая столпились мужики, переглядывались, подмигивали друг другу. Отец Николай настолько был увлечён игрой, что не замечал насмешливо-ироничных взглядов.
Сдвинув мехи, он крякнул, вновь развернул их, насколько хватало рук, и запел:
Бывали дни веселыя,
Гулял я молодец.
Не знал тоски-кручинушки,
Как вольный удалец.
Глеб подошёл к отцу Николаю, стал смотреть, как проворно плясали пальцы по кнопкам. Гармонь печалилась вместе с отцом Николаем по «веселым дням».
Бывало вспашешь пашенку,
Лошадок распряжёшь…
Играл отец Николай ловко, как заправский гармонист. Усы его оттопырились, а нос весело краснел на круглом лице.
Завершив песню, он перевёл гармонь в частушечный наигрыш. Охмелевший Глеб Проворин, с растрепанными волосами и красным от вина лицом, вдруг рявкнул:
Как у нашего попа,
У попа Евгения…
Отец Николай скинул с плеча ремень, на несколько секунд музыка смолкла, гармонь подхватил Мишка Клюев, с напору, под радость расходившихся мужиков, рванул «русскую».
Глеб Проворин плясал перед отцом Николаем, то подбочениваясь, то вскидывая ноги, вызывая его в круг. Тот не утерпел и пошёл вприсядку, подбирая полы рясы.
— Батюшки! — всплеснула руками Пелагея, вошедшая в переднюю и увидев пьяную компанию. — Что творится то!..
Отец Николай поймал её недоумённый взгляд.
— При компании и поп пляшет, — крикнул он и удалее налёг на каблуки.
За ним кинулся Венька:
— Эх, папаша! Эх… ма…
Они трое долбили пол, и изба гудела, и половицы прогибались под каблуками, и брёвна трещали в пазах, и тонко дзинькала посуда на столе. От такого стука и грохота выскочила кукушка из окошка стареньких ходиков, висевших в горнице, хрипло прокуковала который час и замолчала, остановившись с разинутым клювом — что-то сломалась в часах. Шевелились занавески на окнах, и казалось, что и они подпевают певцам, и повернулись листочки на цветах встречь музыки. Отец Николай притоптывал, взмахивал широкими рукавами рясы, как крыльями, и напоминал старого грача, никак не могущего взлететь с пашни. Он припевал с придыханием:
Ходи лавка, ходи печь!
Хозяину негде лечь…
Он пел, когда уже не топалось. Плясать не было сил, и он только сгибал колени в такт музыке, да помавал рукою, повторяя, задыхаясь:
— Ходи веселей! Ходи веселей!
Уставший гармонист неожиданно оборвал пляску, сбросив гармонь с колен, и трое плясунов присели на лавку, откинувшись к стене, и махали ладонями перед лицом, обдувая вспотевшие лоб и щёки.
— По чарочке, по чарочке плясунам, — вдруг спохватился Венька, поднимаясь с лавки и ища на столе бутылку.
Выпив чарку, отец Николай вспомнил, что ему надо ехать в обратный путь. Он показал это знаками Веньке. Тот понял.
— Папаша! — крикнул он отцу Николаю. — Будь уверен. Счас на шаг ноги — и в путь… Пригуби, пригуби, грамулечку…
На обратном пути Венька поил отца Николая самогоном, прихваченным со стола. Они по очереди прикладывались к бутылке, заедая выпитое хлебом с салом и хреном, стащенным Венькой на кухне. В овраге неуправляемый Ветерок задел ступицей колеса за перила мосточка, и телега накренилась. Оба незадачливых седока скатились в крапиву. За ними, громыхая и кувыркаясь, низринулась купель.
Уже темнело и от земли тянуло прохладой, болотной сыростью и гнилой корой, когда двое путников пришли в себя.
— Вениамин? — Отец Николай ползал на коленях и звал: — Откликнись, сыне!
— Чего тебе, папаша? — отозвался Венька, также ползая по траве, вокруг куста бузины, ища потерянную бутылку.
— Дай в бутылку влезть?
— Да не найду я её, в душу, в Бога…
— Сыне, не поминай имя Бога всуе, — закрестился отец Николай. — Дай глотнуть?
— Ага, вот нашёл. — Венька взболтнул бутылку. — Грамм под двести есть. Счас телегу поправлю…
— Никуда твоя телега не денется. Дай сюда! Голова трещит…
Венька вывел Ветерка на дорогу и снова взгромоздился на телегу.
— На, папаша, остатки сладки. — Он протянул попутчику бутылку. — Оставь и мне чуток….
Отец Николай отпил, вернул булькнувшую жидкость Веньке. Тот приложился, осушив бутылку до дна.
Они надолго замолчали, погрузившись то ли в раздумья, то ли в дремоту. Ветерок не спеша бежал по дороге.
— А что, батюшка, скажет матушка? — спросил на Сабуровском поле Венька у отца Николая.
Ответа не услышал. Оглянувшись, Венька увидел, что отец Николай сладко спит, обняв руками купель.
1988 г.
Тип-топ
Борису Колодину позарез нужны были деньги. Он купил мотоцикл с коляской, влез по уши в долги, и теперь надо было расплачиваться. Поэтому, когда его давний приятель Генка Столяров предложил подхалтурить, Борис долго не раздумывал.
Произошло всё случайно. В выходной день Колодин прикатил на своем ИЖе к вокзалу встретить тётку, которая должна была приехать из Александрова. Прослонялся часа два или три, пропустил несколько электричек, следующих на Москву, но тётки не дождался. Решив, что она теперь не приедет, стал собираться домой: вывел мотоцикл из-под тополей, росших за кафе, где он стоял в тени, покачал из стороны в сторону, прислушиваясь, как булькает в баке бензин и соображая, стоит ли ему ехать на заправку или погодить. Мотоцикл был куплен недавно, и Борису на первых порах было приятно с ним возиться. Он тронул заводной рычаг и услышал своё имя. Обернувшись, увидел высокого, загорелого парня в светло-голубой тенниске, с белым треугольным шрамом над бровью, с широкой улыбкой сбегавшего к нему с тротуара.
— Генка?! — не то вопросительно, не то утвердительно воскликнул Борис. — Полозов? Это ты?
Улыбка у парня стала ещё шире. Он подбежал, обхватил Колодина длинными руками и долго не отпускал: хлопал по спине, отдвигался, вглядывался в лицо приятеля, словно не мог наглядеться, и снова сжимал в объятиях.
— А я подхожу, ёмоё, — радостно говорил он, — и думаю: Борьку ли я вижу? Борька!.. Сто лет, сто зим… Где ты пропадал?