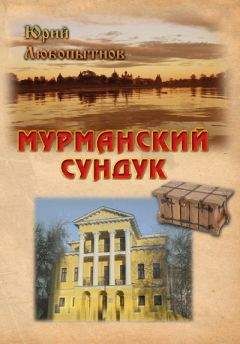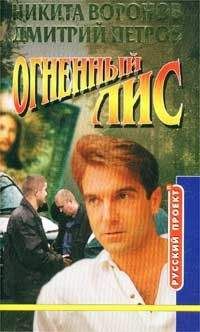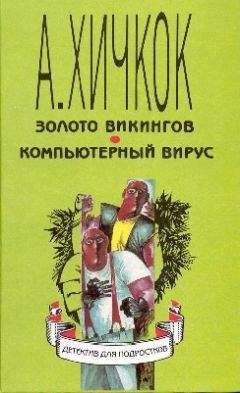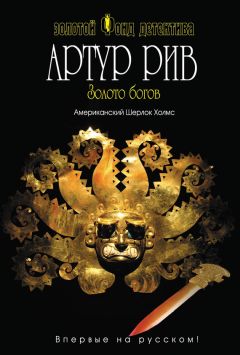Юрий Любопытнов - Огненный скит
— Это Бог мать его наказал, — перешептывались бабы. — Она тогда, когда муж был на фронте, шилась с уполномоченным…
К тому времени, когда отец Николай вышел от больного Павла, согрелась вода, и он скопом, одного за другим, окрестил всех младенцев и отроков, кои были в деревне. Потом освятил дом Глеба Проворина, причастил Лёню и даже набивался помолиться за бесплодную бабу Фросю Дулёву, но та отказалась, сославшись на то, что муж у неё был атеистом.
Складчину после всех душеполезных дел решили провести у Веньки — у него изба была гораздо велика и просторна. По такому случаю загодя купили несколько бутылок водки, и на всякий случай набожная Пелагея изготовила бутыль браги.
Закуска на столе была расставлена нехитрая, кто что принёс из дома: ровно нарезанные куски сала с чуть заметной желтизной по краешкам от долгого хранения, но отнюдь не утратившими свой аромат и мягкость, винегрет, красиво выделявшийся среди других блюд, рыжики солёные, огурцы малосольные, селянка с душистым мясом, селёдка в уксусе, картошка на сале круглая обжаренная, студень с хреном, редька с морковью, решето пирогов и гора свежеиспеченного хлеба, печь который была большая мастерица мать Глеба Проворина.
Ждали отца Николая.
Он вошёл, вытирая только что ополоснутые руки вышитым полотенцем. Поискал глазами образа. Но в горнице их не было.
— Садись, отче, — сказал Венька, провожая его в переднюю. — Откушай, чем Бог послал.
— Хорошо послал, хорошо, — ответствовал отец Николай, оглядывая гору закусок на покрытом белой льняной скатертью столе.
Между глубоких и мелких, больших и малых, с голубыми цветочками и золотыми колосьями тарелок и мисок, селёдочниц и ваз возвышались несколько зеленоватых бутылок с белой сургучовой головкой. Они стояли, как солдаты на часах, охраняя вверенную им закуску.
Перекрестившись на божницу, отец Николай прошёл к столу, задрал рясу и пробрался между лавкой и столом в отведённый ему красный угол. Он пригладил рукой волосы и шумно втянул носом воздух — из кухни доносились запахи селянки, имбиря и душистых пирогов.
— Добро есть так посидеть…
Задвигали лавками и стульями приглашённые, рассаживаясь по местам.
— Давай, отче, накладывай в тарель, и начинать пора, — проговорил Венька, и стал таскать из мисок в свою тарелку закуску.
Глеб Проворин содрал с бутылки сургуч, освобождая бумажную пробку и, ловко вытащив её пальцем, стал разливать водку в гранёные широкие стопки.
Когда всем было налито, Венька, как хозяин, провозгласил:
— Начнём. Отче, что полагается по такому случаю?
Отец Николай понял, встал и, прокашлявшись, начал:
— Очи всех на тя, господи, уповают…
— Тащи, — скомандовал Венька после молитвы и поднёс стопку ко рту.
За столом сидел и полоумный Лёня, крутя головой в разные стороны. Ни водки, ни браги ему не наливали, боясь, как бы не отдал Богу душу, а наливали подкрашенной подслащённой водички. В центре внимания, конечно, был отец Николай. Рюмку ему наполняли первому, лучший кусок подкладывали ему. Он и сам не стеснялся. Выпивал, крякал, вытирал губы полотенцем и тяжело вздыхал:
— Угождение чреву греховно, но человек слаб…
Скоро стало шумно, все забыли ради какого случая собрались, стали громко разговаривать, перебивая друг друга и каждый старался присоединиться к тем говорящим, разговор которых был ближе и понятней.
— Слыхали? — выкатив большие белые глаза, говорил Глеб Проворин. — Наши испытали водородную бомбу. Будет она почище атомной…
— Об этом в газетах пропечатывали, — вставил слово деревенский гармонист Мишка Клюев.
— И по радио говорили, — добавил Фомка Семернин, двоюродный брат Веньки.
— И как это немец не успел обзавестись атомным оружием, — покачал головой Мишка Клюев. — Война для нас могла по-иному кончиться…
— Ну да! Наши обладали такой мощью… Они бы сбросили фрица в море, — сказал с туго набитым ртом Венька.
— Не скажи, — поддержал Клюева Глеб Проворин. — Он огрызался со страшной силой. Я под Берлином воевал, знаю…
— Атом, а что это такое? — спросил Фомка.
Все замолчали. Нашёлся один только Венька.
— Всё очень просто, — сказал он и стал шарить по карманам.
— Счас зальёт, — кто-то хохотнул за столом.
— Вот видишь — спичка, — Венька достал коробок и вынул из него спичку.
— Вижу, — недоумённо ответил Фомка.
— Вот я беру её и разламываю.
— Ну и что?
— Слышишь треск?
— Не глухой.
— Вот это и есть атом.
— Что ж у этой спички такая сила!?
— Это я к примеру. Расщепление — суть ядерного взрыва. Понял, чудо? От расщепления сила происходит.
— А-а, — протянул Фомка и закивал головой, хотя ничего не понял из слов родственника и стал наливать в стакан браги.
На своём углу стола полоумный Лёня громко говорил соседу, не обращая внимания на то, что тот не слушал его, всецело уйдя в поглощение винегрета, который был наложен в тарелку.
— А я профессору отвечаю, — бубнил Лёня, — что Ян Коменский может и хорош, но для нашего социалистического бытия не подходит.
— Выпивайте, закусывайте! — хлопотала вокруг стола Венькина жена. — Я сейчас ещё студенёчка принесу.
В относительной тишине, когда слышалось только звяканье вилок о тарелки да шумное дыхание подвыпивших мужиков, вдруг послышался голос:
Полюбил я тоской журавлиною
На высокой горе монастырь…
Отец Николай перестал закусывать, поглядел, кто это нарушил строгий чин застолья.
А это ни с того ни с сего громко затянул Лёня. Голос у него был тонким и страдальчески больным.
Кроток дух монастырского жителя,
Жадно слушаешь ты ектенью.
Помолись перед ликом Спасителя
За погибшую душу мою…
На Лёню строго посмотрела набожая Пелагея, и он прикусил язык. Но сам того не ведая, дал понять, что застолье без песен не застолье.
Сидевшая то же с краю стола Симка Дегтярёва, пышущая здоровьем и молодостью, подперла рукою ярко-розовую щёку и запела протяжно:
Уродилася я,
Как былинка в поле.
Моя молодость прошла
У господ в неволе.
Женщины поддержали её, подхватили песню.
Пойду, схожу в монастырь,
Богу помолюся…
Невесть откуда появилась гармонь. Её схватил Глеб Проворин. Его толстые, короткие пальцы неумело тронули пуговицы.
— Ха, Глеб! Тебе ж медведь на ухо наступил, чародей! Отдай гармонь Мишке! — воскликнул Венька, увидев, как Глеб пытается найти мелодию.
Но Глеб упрямился и не отдавал гармонь.
Отец Николай, засучив рукава рясы, тыкал вилкой в селёдку, и его круглые глаза поглядывали на шумных мужиков. Он выпил очередную рюмку, отёр губы и усы рукой и подвинулся на свободный конец лавки.