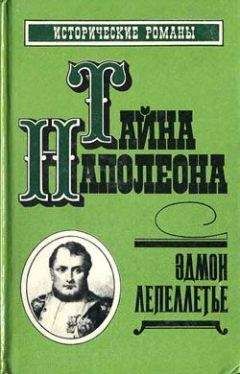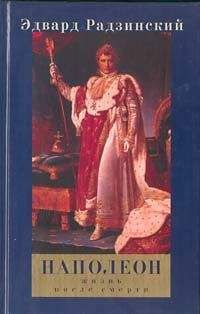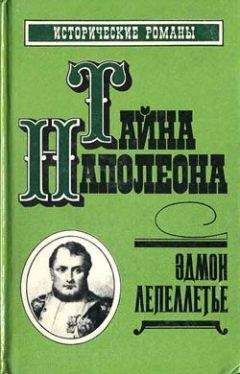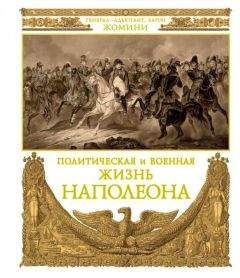Эдмундо Конде - Яд для Наполеона
Молча понаблюдав за ними, хозяйка резко повернулась и, выходя из кухни, бросила:
— А ты, недоросль, чтобы через пять минут был у меня в будуаре, — и захлопнула дверь.
— Что ты наделал? Кто тебя дернул разговаривать с ней на кухне? И зачем ты сейчас ругался? Рехнулся, что ли? — кипятилась Аннетта.
— Я сказал правду, — упорствовал Пьер. — Гнусная потаскуха.
— Тоже мне, открытие! Аннетта права. Оба вы сошли с ума, и стар, и млад, — продолжила Камилла.
— Парня оставьте в покое. Он здесь долго не задержится. У него вся жизнь впереди. — Старик сделал паузу, переводя дыхание. — Ты должен вырваться отсюда. Мир ведь велик, ты знаешь это, правда? Не бойся жизни, вцепись в нее мертвой хваткой и не отпускай, бери, сколько сможешь взять. Послушай меня, если не хочешь, чтобы я ворочался в гробу, когда помру. А коли не послушаешь, клянусь деревом, на котором повесился Иуда: призрак старого Пьера будет преследовать тебя до скончания века. — Он сглотнул, прочищая горло. — И вот что хочу добавить: никогда не теряй достоинства. А сейчас, там, наверху, тем более.
— Можешь не беспокоиться, — заверил его юноша.
— …Взгляни на меня. Я никогда не был храбрым. Никогда…
Пьер вздохнул, проведя рукой по лицу. Юноша оглядывал его глубокие морщины и мучился мыслью, что для старика мир рухнул в одно мгновение, а он, молодой, не мог этому помешать.
— Все, я пошел! — во взгляде юноши промелькнула грустная, отрешенная улыбка, будто он прощается с прошлой жизнью.
— Ради бога, сынок, будь осторожен, — умоляюще прошептала Аннетта.
— Я тебе не сын, Аннетта, — так же тихо, но решительно сказал он, отворачиваясь. — Ты никогда не была мне матерью.
По лестнице он поднимался не торопясь.
Постучал. Хрипловатый голос, который он никогда бы не перепутал ни с каким другим, произнес:
— Входи.
Он вошел, и взору его предстала погруженная в полумрак комната. Проникновению дневного света препятствовали закрытые ставни и пурпурные портьеры на окнах. Ширма с крупными цветами, туалетный столик с зеркалом в резной раме, персидский ковер, кровать под балдахином на четырех столбиках и с большим сундуком в ногах. В канделябре горели свечи. Хозяйка полулежала на обтянутом плисом диване, держа в руке длинную деревянную трубку, инкрустированную слоновой костью. По комнате плыл дурманящий сладковатый запах, который одновременно и манил, и отталкивал.
— Мое имя — Бастид, Селест Бастид. Так же звали и мою мать, — начала она спокойно. На улице вдруг послышался раскат грома. — Свое дело я поставила на широкую ногу, начав с нуля. Сама, без опоры на мужское плечо. И мужчины мне не нужны, разве что в чисто профессиональном плане. Для меня они — существа низкого порядка. Я блудница по призванию. В отличие от тех, кого считаю продажными шлюхами. Если кто сомневается — в моих жилах течет густая кровь всех жриц любви Вавилона. Так что со мной все ясно, в отличие от тебя. А как зовут тебя и какая кровь течет в твоих жилах?
— Зачем вы спрашиваете, вам ведь все известно. — Он посмотрел на нее с вызовом.
— Маленький выблядок все так же высокомерен, — по лицу ее пробежала презрительная улыбка. — Покорность и благодарность тебе неведомы. Ты так и не научился ради спасения собственной шкуры склонять голову. Сколько тебе лет?
— Почти шестнадцать.
— Более чем достаточно. Пора подумать о том, как поскорее убраться из этого дома.
— Вам не придется прогонять меня, госпожа. Я сам уйду. Но прошу вас, оставьте Пьера. Он старый и совсем пропадет.
Гром прогрохотал где-то уже совсем близко. Хозяйка встала с дивана.
— Ты даже умолять меня не имеешь права, подкидыш. Я приютила тебя, когда ты никому не был нужен. Дала тебе кров, пропитание, работу. Ты когда-нибудь соблаговолил сказать мне за это спасибо? — пытаясь успокоить дыхание, она на миг замолчала, сделала затяжку, нахмурилась. — Таких, как ты, много. Вы берете то, что вам дают, как будто это всегда было вашим. Но твоего-то ничего нет, слышишь меня? Чтобы иметь что-то, это что-то надо отнять у ближнего, украсть. Мы приобретаем то, что теряет кто-то другой. Даже любовь. Мы все любим друг против друга. Жизнь — я знаю, что говорю — еще большая сука, чем самая продажная из нас.
— Я только прошу справедливости для Пьера.
— Справедливости? Эта химера — удел живых, а не призраков. А твое существование, дорогуша, — всего лишь видимость, иллюзия, трюк ярмарочного фокусника. Разве кто-нибудь вспомнит о тебе, когда ты околеешь? Отвечай! Каким именем смогут назвать тебя друзья, если, конечно, таковые появятся? Каким именем назовут, проклиная, враги? А если предположить, что у тебя родятся дети, кого они назовут отцом? От кого унаследуют имя? И какое?
Юноша сжал кулаки.
— Я знаю, кто я. И знаю, кто вы — подлая потаскуха!
— Превосходно. Так ты знаешь свое имя?
— Лучше не знать своего имени и не ведать, какая в тебе кровь, — юноша скользнул взглядом по шраму у себя на запястье, — тогда, по крайней мере, еще остается надежда. — Он сделал шаг в ее сторону. — А вы… вы знаете, кто вы и откуда. Но что это дает? Имя, которым вы кичитесь, — позорное клеймо, свидетельство вырождения.
До сих пор она слушала его с гримасой презрения, теперь же широко раскрыла глаза, изобразив изумление, а потом разразилась безудержным, сотрясающим все тело смехом. Насмеявшись до слез, приблизилась к туалетному столику, положила на него трубку и внимательно изучила свое отражение. А затем, словно приняв какое-то решение, повернулась к нему и двинулась навстречу, раскинув руки. Делая вид, что с трудом сдерживает смех, нарочито медленно произнесла:
— Всему есть предел, дорогой племянничек. Не следует быть таким непреклонным, когда речь идет о твоей собственной крови.
Это прозвучало столь неожиданно, что юноше показалось, будто его бросили в глубокий омут. Пытаясь нащупать твердое дно, он необъяснимым образом, но совершенно явственно понял: это конец и одновременно начало. Понял главное — ненавистный голос не лжет.
— Вы говорите неправду!
Хозяйка раздвинула портьеры, открыла ставни и распахнула окно.
— Проветрим, а то душно стало! — Она поправила волосы, пряча шрам на щеке. — Твой дед был чудовищный эгоист. А ты — незаконнорожденный сын его законной дочери. О, Юпитер, сколько же лжи вмещают в себя сердца праведников! Он явился сюда с корзиной, в которой лежал ребенок, — продолжала она, глядя на него в упор. — Этим ребенком, которого даже не окрестили, был ты. Твой дед редко у меня бывал. Придя в тот раз, он упрашивал, чтобы я взяла тебя к себе, оставил мне целое состояние. Я была тогда молода, а следовало бы без разговоров выставить его за порог. Да будь он проклят, а заодно с ним — все католики! Эти ханжи растят детей в любви и заботе, но только не незаконнорожденных. — Дождь яростно хлестал по булыжной мостовой. — И нас с матерью он тоже бросил. Изредка, пока она не умерла, передавал кое-какие деньги. — Она оставила трубку на комоде. — До того как исчезнуть на много лет, он случайно спас мне жизнь. Улицы Парижа всегда полны опасностей. — Она указала на свой шрам.