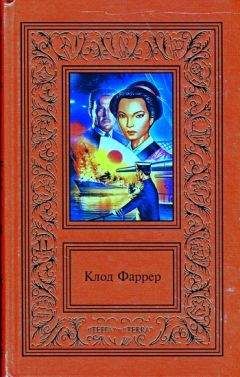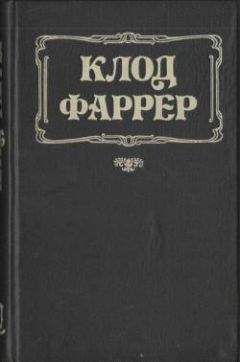Клод Фаррер - СОЧИНЕНИЯ В ДВУХ ТОМАХ. ТОМ 1
Серые глаза сверкнули на «Станислава», как молнии. Поляк, гибкий, как перчатка, заливается смехом и тотчас заговаривает о другом.
Он ударился в скандальную хронику. Через пять минут я знал тайны всех альковов за неделю. С истинно славянским «тактом» он не обошел ни моего посольства, ни своего. Если б он был трезв, я бы его оборвал. Но что сделаешь с пьяным? По крайней мере, его можно было слушать без угрызений совести. Временами он становился просто смешон…
— Арчи, вы заметили новое колье у мадам Нижней? Нет?.. А вы, маркиз, видали? Нитка мелких, мелких жемчужин… Красиво, правда? Она говорила вам, кто ей его подарил? Нет? Ну, так вы один этого не слыхали. Она всем рассказывает, что колье подарил ей маленький Ванеску, румын. И это правда. Потому что… как бы это сказать, Ванеску был ею впервые посвящен… И вот, мальчик, которому едва исполнилось семнадцать лет, дал ей этот жемчуг, как вы дали бы его кокотке. А между тем ей это очень понравилось, и она всем хвастает этим колье, объясняя, что Ванеску заплатил ей этим пари a discretion!
Он громко захохотал и, почти не переводя дыхания, продолжал:
— Слушайте, еще пресмешная история! Три дня тому назад один русский, Донец, сидел со своей женой на их вилле в Буюк-Дере. Они, знаете, молодожены и очень любят друг друга. Полночь, они сидят в ночных туалетах, пьют водку, напиваются допьяна. Вдруг жена Донца заявляет, что водка — не водка, а виски, ирландское виски. Конечно, это была водка. Донец начинает хохотать. Она настаивает на своем. Он сердится и хватается за плеть. Она сопротивляется, царапает ему лицо, ударяет его бутылкой по голове; у него до сих пор виден след на лбу. Но плеть у него; он берет верх и стегает ее что есть сил. Она выскакивает в окно. Он бежит за ней по парку, настоящая травля!.. Она визжит, на сорочке у нее кровь. Наконец, она у калитки, выбегает на дорогу и забивается в маленькое кафе, где около десятка бородатых турок курят свой наргиле за последней чашкой кофе. Донец бросается туда, хватает жену за волосы, швыряет ее на землю и начинает бить. Ну, знаете, турки не любят, когда истязают женщин. Они наваливаются на Донца, вырывают у него несчастную жертву, и теперь уж удары сыплются на него. До того они его отколотили, что, когда явилась полиция, Донец был почти так же избит, как и его жена. Чету перенесли домой. Самое забавное из всей этой истории, что наутро супруги решительно ни черта не помнили!
Фалклэнд роняет короткий смешок и сейчас же приказывает:
— Человек! Heidsieck monopole, rouge!
— Арчибальд, что за безумное упрямство! Человек! Pommery Greno, brut!
Они заставляют меня пить. Их глаза горят, движения становятся лихорадочными. Чернович смотрит на меня вдруг с яростью:
— Но знаете, полковник, Донец — мужчина. Правда, он — не поляк, он не умеет ездить верхом: это уж от природы, тут ничего не поделаешь, но на ногах он просто страшен. Мы скоро назначим его консулом в Македонию, в Митровицу.
Черт возьми! Если таковы все тамошние русские консулы, я не удивляюсь, что албанцы, менее терпеливые, чем турки, иногда сносят им головы. Я улыбнулся? Не думаю. Это было бы неосторожно. Взбешенный и пьяный Чернович схватил бы меня за горло… Нет, опасность миновала. Припадок прошел. Этот человек без всяких переходов начинает смеяться до слез. Он ударяет по столу кулаком и вдребезги сокрушает всю посуду.
— О, маркиз! Я вас видел, не отпирайтесь! Вы живете с девицами Колури. Не отпирайтесь!
Я резко протестую и готовлюсь к самому худшему. Напрасно. Он торжественно встает и протягивает руку над осколками посуды:
— Вы — джентльмен. Сознаваться никогда не надо. Конечно, девицы Колури не в счет; они простые, как говорят наши русские, «бабы». Впрочем, этого слова во французском языке нет. Но по отношению к настоящей женщине, к madam… Здесь слишком много мерзавцев-мужчин. Позвольте, вот Карипуло… вы знаете Карипуло? Он получает в Контроле девятьсот турецких фунтов. И вот, я вчера встречаю его в Пере на главной улице и говорю ему: «Карипуло, с кем спите вы на этой неделе?» Он улыбается в ответ, делает вызывающий жест, чтобы обратить внимание прохожих, и тогда только отвечает громко, во все горло: «Князь, от вас ничего не скроешь: на прошлой неделе это была мадам Баритри; но я воспользовался только остатками солдатского стола. На этой неделе я избрал мадам Папазиан. Я их всех имел!» Вот, что он сказал. Но знаете? Он не имел ни одной. Он — хвастун. Он — грек. Человек! Pommery Greno, brut!
Тут происходит инцидент: подходит метрдотель и, указывая рукой на стену, где вывешены печатные правила, докладывает, что после часа ночи погреб отеля закрыт.
— Что ты сказал?
— Ваше превосходительство, погреб…
— Собака! Свинья!
Он бешено бранится на пяти или шести языках. И вдруг со всего размаха бросает в метрдотеля бутылкой. Впрочем, бутылка летит мимо и разбивает в люстре две лампы. Потеряв равновесие, Чернович падает на стул, выкрикивая последние ругательства:
— Жид! Армянин!
Потом, несколько успокоившись, обращается ко мне:
— Я его знаю… Это — брат моего портье. Я должен этому портье тысячу фунтов. Он берет четыреста на сто.
Фалклэнд, слушавший все предыдущее совершенно бесстрастно, вдруг оживляется:
— Стани! Вы, джентльмен, вы занимаете у лакея?
— А что же делать, Арчи? Все деньги здесь в их руках. И я не грек: я не умею выпрашивать у женщин!..33 Я даже не армянин…
— You are a Pole! (Вы поляк!)
Они завязывают какой-то быстрый диалог на английском языке. Чернович волнуется и кричит. Там и сям проскальзывают незнакомые, наверное, польские слова. Наконец, спор прекращается. Я пользуюсь этим обстоятельством, чтобы подняться…
— До свиданья, господа!
Сэр Арчибальд трясет мою руку. Чернович в избытке сердечности импровизирует прощальную речь:
— Маркиз, мы сегодня выпили.
Да, этого нельзя отрицать…
Между тем сэр Арчибальд тоже собирается уйти. Он проверяет счет. У него огромный бумажник, настоящий английский бумажник, необыкновенно кричащий, из кожи кроваво-красного цвета.
Каик Фалклэнда стоит у отеля рядом с моим. Мы садимся. Князь живет в Буюк-Дере: он остается на берегу и как-то непроизвольно машет руками. Потом кучер силой, по-казацки, сажает его в экипаж.
Мы отчаливаем. Мои каикджи берут вверх по течению. Другой каик, наоборот, направляется вниз.
Позади голос Черновича, который из темноты ночи призывает на помощь всех писателей:
— «В последний раз прощайте, господа!»
Как сыро ночью на Босфоре! Как, должно быть, неуютно и холодно одной в павильоне над морским прибоем.