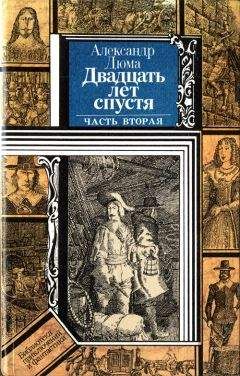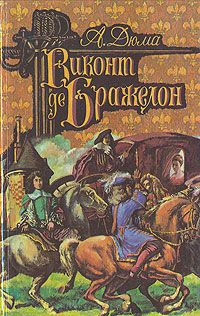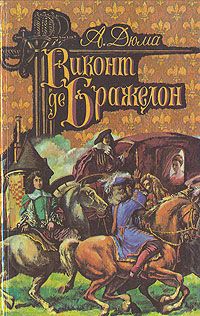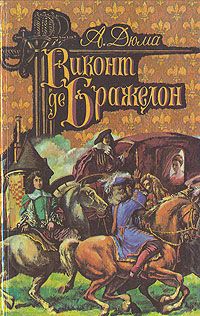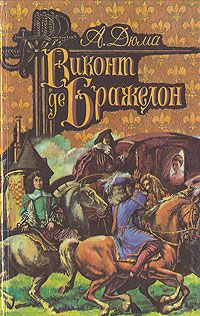Марина Алексеева - Мистерия, именуемая Жизнь
Портос громко захохотал.
— Существуют, существуют! Как же не существуют! Но гасконец — не Атос, он там такого понаписал! Всем досталось! Бедный Арамис! Помните, некая дуэль, на которую вы пошли, приняв слабительного? А бабенка Атоса, с которой он развлекался, несмотря на рану, угрожавшую его жизни, и мы еле-еле ее отвадили — понимаете, кабальеро, речь идет о смазливой бабенке, а не о ране и не о жизни нашего дорогого Атоса?[7]
— Понимаю, — сказал дон Энрике, — Не такой тупой, как вам кажется. Значит, и гасконец "Мемуары пишет"? Когда это вы все успеваете?
— Впрочем, мне он читал самое начало — времена Ришелье. Но я пошел! К обеду подтянусь.
— Подтягивайтесь, Портос, подтягивайтесь.
Портос удалился.
— Держите себя в руках, черт возьми! — сказал Арамис.
Дон Энрике положил локти на стол, закрыв лицо руками. Арамис обнял испанца:
— Держитесь, дон Энрике, будьте мужчиной!
Дон Энрике пристально посмотрел на Арамиса.
— Арамис! — сказал он, — А ведь мы с вами подумали об одном и том же, когда вошел Портос.
Арамис изо всех сил старался владеть своей мимикой.
— Вы не ребенок и не женщина, чтобы заливаться слезами, — сказал он.
— Разве мужчины совсем никогда не плачут? — спросил дон Энрике, — Когда душа разрывается на части? Разве у мужчин каменные сердца?
— Очень редко. Почти никогда. Настоящие мужчины.
— А вы сами никогда не плакали?
— В последний раз я плакал, когда вас еще на свете не было, дон Энрике. И никого не было из вашего поколения. Ни вас… Ни Людовика… Ни Филиппа… ни… — добавил он после короткой паузы и вздоха, — Ни… Рауля. В другой жизни, как теперь говорят.
Он улыбнулся грустно и задумчиво, отрешенно смотря на белого голубя, — В той жизни я не носил сутану. Я носил синий плащ с лилейным крестом… Я тогда расстался с любимой женщиной… И та жизнь кончилась. А все могло быть иначе…
— И женщину ту звали Мари Мишон?
— Вам известно ее настоящее имя?
— Да.
— От командора де Санта-Круса?
— Да.
— Понятно. Но… не будем увлекаться воспоминаниями… Вы сгущаете краски, дон Энрике. Наши дела не так плохи, как кажется героическому Командору дону Патрисио де Санта-Крусу. А вы, дон Энрике, просто пешка в игре вашего Великого Магистра. Хотите выслушать мои соображения?
— Да.
— Так вот, вы сказали, что ваши корабли или галеасы — что там еще у вас — присоединятся к эскадре герцога де Бофора.
— Да. Все уже решено. Наших возглавит командор де Санта-Крус.
— Великому Магистру выгодно, чтобы весь наш флот ушел на юг, и развернулась широкомасштабная операция. Я оставляю Бель-Иль, Людовик об этом узнает, и Бофор получает вторую эскадру.
— Это было уже обещано Бофору, между прочим!
— Королем Людовиком?
— Да. На последней аудиенции Его Величества.
— Обещанного три года ждут.
— Бофор не сможет ждать три года!
— Это я к слову. Но вся эта затея — какой-то экспромт, авантюра! Разве так готовят такое серьезное дело?
— А как?
— Об этом чуть позже. Мне непонятно одно — почему Котонер, ваш Магистр, послал ребенка с таким сложным поручением?
— Я все провалил, — печально сказал дон Энрике.
— Будь на вашем месте сам Санта-Крус, давно мне знакомый и очень мною уважаемый Героический Командор, я ответил бы то же самое! Так и передайте вашему Магистру.
— Неужели у вас каменное сердце… — прошептал дон Энрике, — Вас предупреждают. Ваш корабль налетел на рифы и дает течь… Имя этим рифам — Фуке и Людовик, пробоину уже не заделать! Я вам объясняю по-морскому.
— Это понятно. «Морская» болезнь?
— А вы, вместо того, чтобы принять помощь, предложенную от чистого сердца, от верных друзей, преспокойно дрейфуете.
— Это говорит салага, который еще и пороху не нюхал.
— Имеющие глаза — не увидят, имеющие уши — не услышат, — промолвил дон Энрике, — Я столько слышал о вас! Вы были поэтом, вы любили, у вас замечательные друзья, вы достигли могущества, вы стали Черным Папой — и вы так бездушны!
— Потому что не плачу рядом с вами от того, что по подоконнику разгуливает прирученный мною белый голубь? А знаете, дон Энрике, невыплаканные слезы — это еще тяжелее. Вы счастливее меня.
— Потому что я — салага?
— Когда вы захотите плакать и слез не будет, вы меня поймете, дитя мое.
— Разве у вас были такие случаи после вашей разлуки с… Мари Мишон?
— О да! — вздохнул Арамис.
Он опять взглянул на белого голубка.
…Королевская площадь. 1648 год. Д'Артаньян: "Ваши действия достойны питомца иезуитов…"
1649 год. Карл Первый на эшафоте… REMEMBER!!!
Лодка в Ла Манше…
— Нет, — вдруг сказал Арамис, — Один раз меня все-таки чуть слеза не прошибла. Это было зимой 1649 года, когда мы все решили, что Атос утонул… в результате… несчастного случая. Вот тогда у меня уже почти появились слезы на глазах. Но Атос вцепился в лодку — и слез как не бывало. А больше — хоть в моей бурной жизни было немало форс-мажорных ситуаций — я уже никогда не позволял себе дать волю чувствам.
— Значит, вы не такой непробиваемый и бесчувственный, зачем же вы прячете свое истинное лицо даже от лучших друзей, Арамис? Зачем вы интриговали против Д'Артаньяна? Между вами возникло непонимание, какая-то отчужденность, а ведь гасконец очень любит вас, и ваше недоверие оскорбляет его. Он не покажет этого вам, но мучается от этого.
— Устами младенцев глаголет истина, — произнес Арамис, — Мой юный друг, я удивляюсь, что вы, испанец, иностранец, так близко к сердцу принимаете наши дела? Конечно, ваши чувства делают вам честь — в наш век, когда люди, большей частью эгоисты — вы же чувствуете чужую боль так же остро как свою. Или, быть может, еще острее.
— А у меня-то самого все отлично! У меня нет никаких травм — ни моральных, ни физических! А о Портосовой лапе я и забыл уже!
— Так в чем же дело?
— О Арамис! — взволнованно сказал дон Энрике, — Не сочтите за дерзость такое обращение к вам. Понимаю, что называть вас вашим боевым прозвищем право имели только близкие друзья. Называя вас не господином Рене Д'Эрбле, а Арамисом, вашим вторым мушкетерским именем, я обращаюсь к вам, как если бы говорил с самим Тристаном или Сидом. Я обращаюсь не к всемогущему Генералу иезуитов, а к бывшему мушкетеру.
— Почему же — "бывшему"? — спросил Арамис.
— Значит, вы не убили в себе мушкетера? — с надеждой спросил дон Энрике.
"Мой плащ. Мой синий плащ. Пусть меня в нем и похоронят!" — эти слова Портос внезапно припомнились Арамису. "Пока мы не выберемся из этой западни, меня будут преследовать эти слова. Но кто сказал, что Бель-Иль — западня? Это просто нервы расшалились. Мало ли что сболтнет Портос. Нельзя так распускаться".