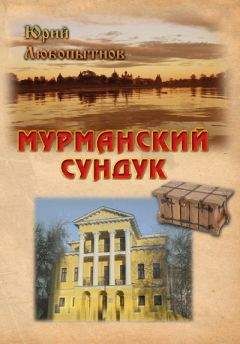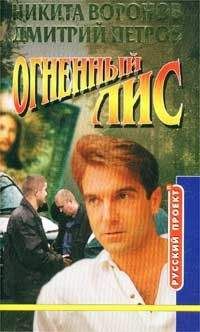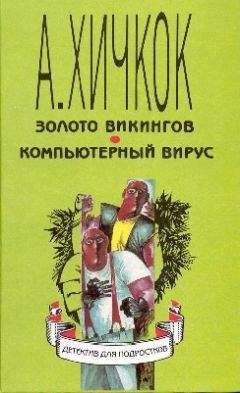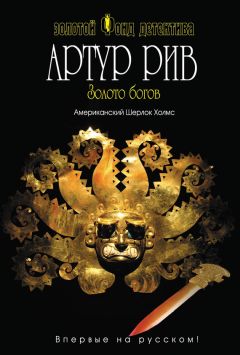Юрий Любопытнов - Огненный скит
— Чегой-то это ты! — удивился Роман, пропуская гостя в дом.
— Да вот такая канитель, — ответил Бубенчик, ставя чемодан и гармонь трехрядку на пол. — Завтра отправляюсь к себе на родину в Звенигородский уезд (он так по старинке назвал район). Хватит жить со старой шваброй.
— Так вроде бы у вас получалось — контачило? — уставился на гостя Фёдоров. — Искры летели, но короткого не было.
— Искры кончились — пожар начался, — в тон Фёдорову ответил Бубенчик. — Не хочет она со мной расписываться. Я тож не дурак: сейчас горбачусь, всё делаю, деньги она на книжку ложит, а потом, когда загнётся, меня отсель её внучатки или детушки попрут и ничего мне не достанется. Лучше уехать, пока не поздно.
Переночевав у Романа, утром он пошёл на работу, думая подать заявление на расчет. У ворот фермы остолбенел, увидев Самописку. Прибежала она впопыхах, надеясь, что её благоверный не смотался в такую рань. Ноги без чулок были сунуты в резиновые сапоги с широкими голенищами… На икрах были следы грязи от быстрой ходьбы. Утренники были прохладными, и поверх засаленного повседневного платья Самописка накинула телогрейку с надорванным рукавом. Она бросилась к Бубенчику, разбрызгивая навозную жижу.
Доярки видели, как Бубенчик стоял, независимо прислонившись к воротам фермы, а Самописка ходила возле него, что-то жарко говоря. Бубенчик размахивал руками, закуривал одну за другой папиросы, ломая спички и бросая их под ноги, и отрицательно качал головой.
Самописка-таки уговорила его не писать заявления на расчёт, потому что у неё душевное беспокойство прошло и началось другое — на предмет к нему жалости, и что она впредь подумает и, возможно, соединит с ним свою судьбу на законных основаниях.
Бубенчик ответил, что если она и в обозримом будущем будет его мытарить, тянуть резину, он не будет у неё жить в качестве прихлебателя и работника. Он хочет быть полноправным человеком согласно Конституции и прочему, со всеми вытекающими отсюда правами и полномочиями.
Он забрал чемодан и гармонь у Фёдорова и опять перебрался к Самописке, и опять каждый божий день продолжал колготиться по дому, ходить по воду, топить печь и справлять остальные дела, которые необходимо делать, когда живёшь и надеешься, что жить будешь долго.
После этого случая Самописка сдалась — сочеталась законным браком с Петрушей. Из сельсовета Мишка Мотылёв привёз их на своем ИЖе с ветерком — Бубенчик обещал на радостях налить ему бидон браги.
После росписи, а это был выходной день, суббота или воскресенье, Самописка пригласила на свадьбу гостей: старую бабку Татьяну Драчёнину с племянницей Веркой, пятидесятилетней вековухой, да свою давнишнюю приятельницу Дуську Казанцеву по прозвищу Телеграмма — она все новости в селе знала раньше всех и передавала их со скоростью телеграфа, а может, и быстрее.
Часа два гости посидели в доме, тихо, мирно, потом вышли на улицу, в палисадник, сели перед окнами. Полсела высыпало из своих домов, заслышав развесёлую компанию. Бубенчик в белой накрахмаленной рубашке, с гладко причёсанными волосами, во хмелю наяривал на гармони, а товарки Самописки пели:
Не ходите, девки, замуж —
В этом нет хорошего…
И лихо отплясывали на утоптанной площадке, не жалея ног и каблуков. Слова частушек были такими, что даже видавшие виды мужики, услышав их, крякали и прятали глаза.
Бубенчик целую неделю не выходил на работу, ел, пил и по вечерам, сидя в палисаднике, играл вальсы и елецкого, а в перерывах между экзерцициями, задумчиво смотрел на свои новые красивые тапки, купленные Самопиской ему в подарок, ерошил волосы и вытягивал губы трубочкой, закатывая глаза. Какие мысли бродили в голове у Петруши — никому не было известно, потому что никогда, кроме единственного случая, когда сказал, что завоюет Самописку, он больше души своей не показывал.
Как-то утром за ним пришёл бригадир Сёмка Фомин, стал звать на работу. Бубенчик после завтрака, ковыряя в зубах обломком спички, сказал:
— Я таперича не знаю — работать ли мне…
Сёмка не нашелся, что ответить Петруше. Он молча мял кепку в руках, а потом неуверенно спросил:
— Будешь сидеть на иждивении половины?
— Пусть Самописка работает. Вон она какая! А мне хватит, я горб погнул. Отдохнуть хочу.
— Ты что, Петруха, — сдурел! Работать надо. Иди, а то прогулы поставят.
— А что мне работа! — бахвалился Бубенчик. — Вон какой у меня участок — только работай!
Однако появилась Самописка и пресекла медовый месяц тут же, на корню, сказав своему супружнику:
— Иди! Нечего дома сидеть, живот наедать. Выходные для отдыха будут!
Сказала она это таким тоном, что супруг и повелитель не стал переспрашивать, что ослышался.
Он собрался и пошёл. Однако работал из-под палки. Ни шатко, ни валко. Только время отбывал. Но дома вкалывал. Перекрыл крышу, поставил новый забор, выше прежнего, поверху протянул два ряда колючей проволоки — для острастки любителей чужого добра. Но этого показалось мало: содрал с высоковольтного столба предупреждающую вывеску, на которой был изображён череп и две скрещённые кости с надписью «Не трогать — смертельно!», повесил на забор.
— У тебя никак под током? — спросили его озадаченные таким поворотом мужики.
— Пока нет, но надо будет — сделаю.
Бубенчик и на базар сам стал ездить, продавать выращенное.
Сшил хромовые сапоги, купил новую рубашку, шляпу — оделся фертом — не подступись. Стал курить душистые папиросы, здороваясь, протягивал два пальца.
Встретив как-то Юрлова, сказал:
— От старухи Изергиль привет. И от гренадёра, который шарик изучает. А я, вишь, завоевал Самописку, — самодовольно осклабился он.
Пыхнув в нос Юрлову папироской — руки в карманах — удалился.
Озадаченный Юрлов долго глядел ему вслед.
Осень была щедрой на урожай. Бубенчик насолил огурцов и помидоров, накопал полный подпол отборной картошки. Яблони в саду ломились под тяжестью розовых, красных, жёлтых увесистых плодов.
Сад стал сторожить сам — не доверял Самописке. Выходил из себя, когда замечал, что в саду кто-то побывал и обтряс яблоню.
— Поймаю озорников, — кипятился он, пытаясь рассмотреть следы на земле. — Быстро отучу в чужие сады забираться…
Однажды поймал Витьку Помазкова, загнал в щель между забором и сараем, растопырил руки, поманил, оскалив рот:
— Иди сюда! Иди-и!
Оттрепал за уши, так надёргал, что Витька — худенький подросточек — только поскуливал потихоньку, прикусив губу, чтобы не зареветь громко, а то народ соберётся — ещё хуже будет, да и отец узнавши всыплет по первое число.