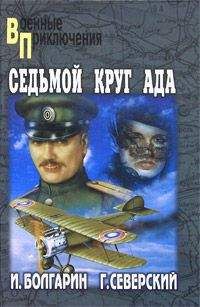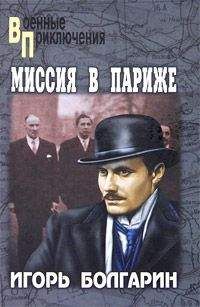И. Болгарин - Адъютант его превосходительства
В кабинет Ковалевского Таню провели через его апартаменты – она по телефону просила Владимира Зеноновича принять ее, но так, чтобы не видел отец.
Ковалевский пошел навстречу Тане, поздоровался, усадил в кресло, однако во взгляде его, в жестах, в голосе не было обычной для их отношений устоявшейся, привычной Тане теплоты.
И она поняла, что Владимир Зенонович догадывается о цели ее прихода и то, о чем она будет говорить, неприятно ему. И тут же прогнала эту мысль. Отступать было нельзя. Она все равно скажет.
– Ну-с, Таня, я слушаю. Какие секреты завелись у тебя от отца? – В голосе сухость, даже враждебность.
Ковалевский и в самом деле догадывался, что Таня хочет говорить с ним о Кольцове. Он не хотел этого, решительно не хотел и поначалу, сославшись на крайнюю занятость, отказал во встрече, но Таня настаивала, и он согласился – ведь все же это была Таня, к которой он привык относиться очень добро, с родственным теплом, Наверное, она страдает, и кто, кроме него, может сказать ей сейчас ободряющие слова?! Щукин? О, только не он! Ковалевский приготовился быть участливым и мягким с Таней. Но когда она вошла и Ковалевский увидел ее горящие глаза на бледном, осунувшемся лице, он понял, что пришла она не за утешением. Что же еще нужно Тане? Что? Он ждал.
Таня была полна решимости.
– Владимир Зенонович, я должна увидеть Кольцова.
– Это невозможно, Таня. Невозможно и незачем! – тотчас отрезал Ковалевский.
– Мне очень дорог этот человек. – Голос Тани дрогнул, но она, овладев собой, договорила: – Я люблю его, Владимир Зенонович…
– Замолчи сейчас же! – властно прервал ее Ковалевский. – Опомнись!
– Нет! – Глаза Тани непокорно вспыхнули под сдвинутыми бровями. – Я знаю, вы скажете… Вы скажете, я должна подавить в себе все теперь, когда знаю, что Павел… что он… Но есть две правды, Владимир Зенонович. – Голос ее зазвенел. – Две, две правды! Одной служите вы с папой. А у Кольцова своя правда, он предан ей, и это надо уважать, каждый может идти своей дорогой… – Таня спешила высказать все, что передумала, что выстрадала в последнее время, но не успела, ее прервал, хлестнув зло, совсем незнакомый голос: разве мог он принадлежать Ковалевскому?
– Перестань, пожалуйста, перестань! Ты бредишь. Ты больна. Подумай об отце, наконец!.. Офицер Кольцов изменил присяге, предал дело, которому мы все служим. Он предатель, пойми это! А все остальное – романтические бредни. Все намного серьезней, чем ты навоображала… Повторяю, ты больна. И с тобой следует поступать как с больной.
Ковалевский нажал кнопку. Дверь, ведущая в кабинет, распахнулась, на пороге встал Микки.
– Возьмите мою машину, отвезите дочь полковника Щукина домой. Татьяна Николаевна нездорова.
И все же через несколько дней, на этот раз уступив просьбе самого полковника, Ковалевский разрешил свидание Тане с Кольцовым.
– Это гораздо серьезнее, чем я думал, – сказал Щукин командующему. – Завтра я отправляю свою дочь в Париж, и это свидание Таня вымолила у меня как прощальное…
Таня спустилась в темный, нахоложенный сыростью подвал… «Сейчас, сейчас я увижу его. Боже мой, что со мною? – лихорадочно думала она. – Я же просто слабая… Я люблю его и оттого… А я должна быть сильной, для прощания сердце должно быть сильным. А я слабая. Папа прав – мне надо уехать. Теперь – конец. Его убьют… Господи, спаси его! Пусть он полюбит другую, только спаси его!..»
И вот открылись двери в подвал – и Таня увидела Кольцова. Он стоял, бессильно прислонившись к стене, худой, изможденный, в разорванном на плечах мундире без аксельбантов и погон. Сердце ее сжалось от боли и жалости, она заплакала, потому что считала нынешнее положение Кольцова унижением.
Тюремный надзиратель нерешительно позвякивал тяжелой связкой ключей. Ему хотелось сказать Тане что-то ободряющее, что-то доброе, но он не решался вмешаться в ее горе. Он смотрел на нее подслеповатыми, совиными глазами и думал: «Господское горе хлипкое. Со слезой. И с красивыми словами. Ох и насмотрелся я на него!»
Кольцов, увидев Таню, протянул к ней руки, и столько было в этом движении радости, что Таня торопливо отерла слезы и внутренне вся просияла, идя ему навстречу.
«Какие у нее глаза? Осенние! – невольно залюбовался девушкой Кольцов.
– Я вот все хотел их вспомнить и не мог. А они, оказывается, осенние – с золотинкой…»
Заговорив, Таня оборвала его мысли.
– У нас очень мало времени. – Она чуть отстранилась, не отрывая взгляда от его лица. – А мне надо сказать… Павел, я все, все знаю. И по-прежнему с тобой.
– Барышня, не положено разговаривать!.. Барышня, не положено! – угрюмо твердил надзиратель, не зная, что ему предпринять, чтобы соблюсти тюремную инструкцию и не потревожить своей совести.
Таня порывисто достала из своей сумочки деньги и, не глядя, дунула их в руки надзирателя.
– У тебя есть друзья… Ты мне скажи… Я пойду к ним, поговорю… – торопливо говорила она. – Они спасут тебя… Сейчас тебя не убьют. Отправят в ставку, будет суд. Еще многое можно делать. Так куда, к кому мне идти, Павел? – лицо ее пылало решимостью и надеждой.
Ах, Таня, Таня… Он не ошибся в ней. Значит, не ошибся, полюбив эту девушку. Как же сейчас ответить ей, чтобы не обидеть, чтобы она поняла… Старцев и Наташа, конечно, уже знают об его аресте, и если что-то можно сделать – сделают. Будут пытаться – это он знал твердо. Так что Тане и не нужно идти к его друзьям. Для него – не нужно. Да и куда идти? Они переменили квартиру, а может, и вовсе уехали из Харькова.
– Спасибо, Таня, – тихо сказал Кольцов. – Спасибо тебе за все. Мои друзья знают о моем положении и конечно же мне помогут. Так что, будем надеяться, все у нас еще будет хорошо.
На лицо Тани легла тень, она мгновенно сникла.
– Я пришла проститься с тобой, Павел! – чуть слышно сказала Таня. – Навсегда проститься. – И, спохватившись, что он ее Может понять не так, тихо добавила: – Отец отправляет меня в Париж…
Таня повернулась и медленно, точно слепая, направилась я выходу – теперь она уже навсегда уходила из его жизни.
С тех пор как Ковалевский узнал о том, что его личный, пользующийся неограниченным доверием адъютант оказался красным, его не покидало ощущение вплотную подступившей катастрофы. Словно к самому краю пропасти придвинулось все то, во что еще совсем недавно он свято верил, чему поклонялся, ради чего переносил безмерные тяготы последних лет. Сегодня он уже не мог, как прежде, сказать себе, что сражается за правое дело…
«Если такой блестящий офицер перешел к красным, если не побоялся уронить своей чести предательством, значит, усомнился в чем-то важном, может быть, главном, – с горькой усмешкой растравлял себе душу Ковалевский. – Впрочем, какая это измена? И здесь, и там – русские… Вот!.. Быть может, здесь правда? В этом секрет, почему Кольцов переметнулся к красным?..»