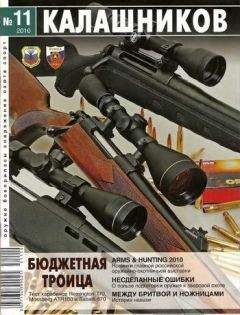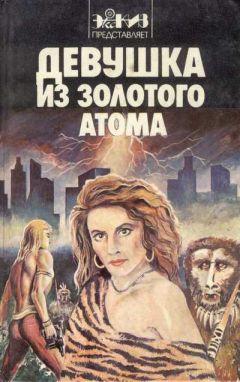Время умирать. Рязань, год 1237 - Баранов Николай Александрович
Выехали на опушку, когда солнце уже изрядно просело к западному окоему. За Черным лесом на полдень настоящих лесов больше не имелось. Так, перелески, рощи, дубравы. Отряд никто не потревожил. То ли разбойнички решили не выбираться сегодня за добычей, то ли не осмелились связываться с хорошо вооруженными и готовыми к бою воями.
В деревню, стоящую на въезде в лес с этой стороны, решили не заезжать. Ратьша махнул рукой стайке голопузой детворы, выбежавшей на околицу при появлении отряда всадников. Восторженные чумазые мордашки с большими, как плошки, глазищами… У Ратислава екнуло сердце: что с ними будет, если саксин сказал правду? Видно, лицо боярина заметно посмурнело: весело щебечущая малышня замолчала и опасливо подалась назад. Согнав с лица хмурое выражение, Ратьша ободряюще улыбнулся, достал из притороченного к седлу походного мешка уже слегка подсохшую сдобную лепешку, испеченную специально для него мамкой, и протянул пареньку постарше.
– Раздели на всех, – сказал.
Тот принял угощение и серьезно кивнул.
К селу, которое Ратислав заранее определил для ночлега, добрались уже в темноте. Снова ужин, ночевка. Наутро сборы – и в путь. Этим утром опять начал крапать дождь, но к обеду разведрилось, снова появилось солнышко.
Перелески сменялись полянами, которые становились все больше и обширнее, с уже степным разнотравьем. Слева показалась длинная полоса зарослей ветлы, блеснула речная вода. Это излучина реки Польный Воронеж. Правее, верстах в двадцати, течет тоже на юг Лесной Воронеж. Лесной, потому что по большей части русло его пролегает в лесистых местах. Отряду Ратислава ехать вдоль Польного Воронежа, вниз по течению, почти на полдень.
Здесь тоже попадаются селения рязанцев. Деревеньки в два-три двора. Иногда вообще только из одного. Такие одиночные крестьянские дворы здесь называют заимствованным у бродников именем – хутор. Хутора отгородились от внешнего мира частоколом и глухими стенами дворовых строений от зверья и лихих людей. Жизнь в этих местах полна опасностей, но землепашцы тянутся сюда на жирный чернозем, рождающий небывалые урожаи. А опасность… А где не опасно? Севернее степняки. Конечно, набегают реже, но там княжьи усобицы землю зорят. Да и свободнее здесь, вольнее… Крестьяне сами на погост осенью оброк свозят столько, сколько посчитают нужным. А кому прибыток проверять? Княжьи тиуны сюда редко заглядывают. Но все же везут. За защиту. Понимают: не будет оброка, не на что будет содержать степную стражу. А без нее беда, не выжить землепашцу в лесостепи.
Кто хочет стать еще вольнее или бежит от закона, те прибиваются к бродникам, людям славянского языка, испокон века обитающим здесь, на границе степи и леса. Да и в самой степи их тоже хватает. Селища бродников прячутся в заросших деревьями и кустарником поймах и устьях рек, на речных островах, плавнях, болотистых низинах. Часть из них переняли привычки кочевников и гоняют стада по степи, как-то уживаясь с половцами, а до них уживались с печенегами и хазарами. Теперь вот и с татарами, говорят, общий язык нашли.
Теснят их рязанцы с насиженных мест, продвигаясь вглубь лесостепи, потому время от времени бродники объединяются и начинают зорить русские селения. Обычно с ними справляется степная стража. Если ватага уж слишком большая, приходится звать княжьих дружинников. Потому не любят бродники рязанцев, а рязанцы – бродников.
Что касается землепашцев, от набегов степняков и бродников их бережет степная стража, коей командует боярин Ратислав. Мелкие шайки перехватывают и отгоняют сами, а при большом набеге дают знать об опасности окрестным селениям дымами. В таком случае землепашцы собирают скарб и вместе со скотиной добираются до ближайшей крепостицы, построенной для их защиты. В теплое время, когда опасность велика, в этих крепостях сидят небольшие гарнизоны. Но и сами селяне могут за себя постоять: в каждой избе имеется оружие, которым они умеют пользоваться. А куда деваться, жизнь заставляет. Могут биться даже верхами, как легкоконные стрелки. При крайней необходимости землепашцы пополняют отряды степной стражи и дерутся с находниками не хуже Ратьшиных бойцов.
К вечеру добрались до Онузлы, стоящей у места впадения в Польный Воронеж речки Сурены. Так вышло, что Онузла стала главным городом здесь, на степной границе. Изначально была она обычной пограничной крепостью для убежища окрестных крестьян. Но потихоньку население ее росло. Гарнизон в полсотни воинов стал постоянным, охраняющим селение круглый год. На постоянное жительство здесь оседали кузнецы, ремесленники, торговцы, скупающие добычу у воинов пограничной стражи и торгующие со степняками. Крестьяне с земельными наделами, расположенными поблизости, тоже предпочитали селиться тут, поближе к надежным крепостным стенам.
Первоначально крепость поставили на оконечности мыса, образовавшегося в месте слияния рек. С двух сторон твердыню прикрывают обрывистые берега, а с третьей – глубокий ров, соединяющий оба русла и заполненный речной водой. В городке имеются три церкви и княжий погост.
Уже вскоре после постройки крепости места для жительства всем желающим внутри стен стало не хватать, и людям пришлось селиться рядом, за рвом на слободе. Дворов становилось все больше, и вскоре крепость не смогла вмещать в случае набега не только жителей окрестных деревень, но и обитателей слободы.
Возвели еще одну стену, отрезавшую от мыса кусок побольше. Раз эдак в шесть. Снова прокопали ров, соединяющий реки. Свершилось это лет десять тому. Но население городка продолжало прибывать, и сегодня снова не умещается в стенах. Количество постоянно живущего здесь народу, пожалуй, к тысяче подходит. Новая слобода растет за рвом.
В слободе торговая площадь непривычно пуста: нет степных торговцев – нет торговли. На улицах городка народу тоже немного: купцы отъехали на север, делать им здесь нечего, да и чуют угрозу из степи. Проехали воротную башню, по главной улице добрались до Старого города. Там въехали за ограду княжьего погоста. Встретил отряд здешний тиун Тимофей, старый знакомец Ратьши, становившийся в его отсутствие заодно и воеводой. Был он очень удивлен неурочным появлением Ратислава, уехавшего чуть боле недели назад вроде как жениться. На расспросы тиуна Ратьша отвечал уклончиво, и тот, будучи человеком неглупым, понял, что дело, за которым прибыл боярин, не его ума.
Здесь, в Онузле, Ратислав решил устроить дневку, чтобы перед сложным и опасным делом дать хорошенько отдохнуть людям и лошадям. Да и сакмогонов надо подобрать не спеша. Тимофей устроил его воинов в дружинной избе, а Ратьшу с Могутой пригласил на постой в свой терем. Гостеприимная супруга тиуна споро собрала на стол. Выпили, закусили, еще выпили, закусили уже основательно: поднадоела за три дня походная еда. Когда хмель ударил в голову, тиун снова попробовал разговорить Ратислава. Да куда там, секреты боярин умел хранить, даже упившись до изумления. Увидев, что у гостей слипаются глаза, и поняв, что выяснить так ничего и не удастся, Тимофей предложил отправиться почивать.
На следующий день Ратислав и Могута занялись отбором стражников для поиска. Всего в Онузле сейчас их набралось чуть больше сотни, дальние дозоры потихоньку возвращались из степи. Выбирали лучших из лучших. Получилось четыре с половиной десятка. Половецкую одежду, брони и оружие, недовольно покряхтев, им выдал тиун. При этом опять попытался хоть что-нибудь выведать. Безуспешно, само собой. К вечеру все было готово. Еще раз лично проверив оружие и сброю, Ратислав приказал всем пораньше лечь спать. Убедившись, что приказ выполнен, улегся сам.
Утром выехали. На этот раз сразу напялили половецкое платье. Оружие, вещи – все тоже половецкое, вплоть до мелочей. Единственное, что нельзя было поменять, внешность. Конечно, среди половцев после почти двух сотен лет мира и войны с соседями люд народился самого разного вида, но таких белокурых, как, допустим, Ратьша или двое ивутичей из его дружины, боярину не попадалось. Ну да с мертвых не спросишь, а живыми они в руки татарам попадать не собирались.