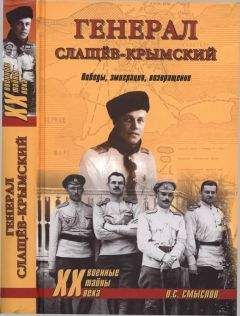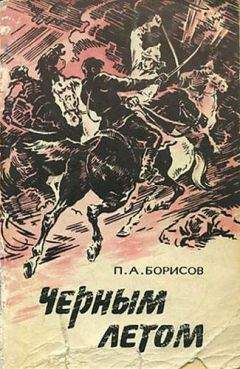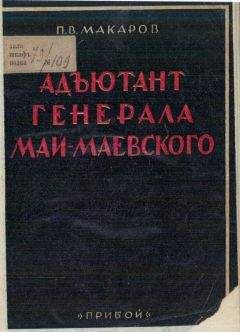Виктор Смирнов - Багровые ковыли
Пирей оказался суматошным и грязным портом, какой и сравнить нельзя было с черноморскими. Русских на берег не пустили: боялись болезней.
– Вот тебе и единоверцы! – ворчали на палубах. – Вот тебе и братья!
Пока капитан договаривался о погрузке угля, Щукин, сунув стоявшим у трапа двум солдатам-эвзонам в зеленых фесках и длинных, до колен, мундирах по пятидрахмовой монете, вышел на причал и вскоре отыскал офицера с тремя галунами на кепи – начальника стражи. Старше никого не было. Николай Григорьевич заговорил с ним на смеси ново– и древнегреческого. Офицер ответил ему на смеси русского и украинского: он был из дивизии генерала Манетаса, которая высадилась в Одессе, воевала с Красной Армией и, понеся потери, поспешила эвакуироваться на родину.
– Визы зробым, – сказал начальник стражи. – Были б гроши!
Через час все было устроено.
Когда они сходили на берег, началась загрузка угля. По трапу шли, шатаясь, неся на спине тяжелые корзины, худые, мускулистые отрепыши с головами, обмотанными тряпками. С них чернилами стекал пот. Зубы поблескивали в оскале напряжения.
– Вот, Николай Григорьевич, вы про Спарту рассказывали… Интересно! – Степан в восторге покрутил головой. – Но только так, если по душам, Николай Григорьевич… Проходит жизнь, получается красивая легенда. А жизнь-то не меняется. Вот уголек несут, это же, как вы говорили, илоты. А вон там… – Он указал на склоны горы Эгалеос, где виднелись сахарно-белые виллы, полуприкрытые кипарисами. – Там до сих пор эти… спартиады, так их!.. живут…
– Ну, что касается Афин, где мы с тобой находимся, то они дали образцы высочайшей демократии, – ответил Щукин. – А что на этой древней земле нищеты полно, так это точно.
Он взглянул на Таню. Ох, не хотел Николай Григорьевич никаких упоминаний о классовой борьбе. Он собирался показать дочери да заодно и Степану, с которым, он чувствовал, крепко связала его судьба, чудесную сказку. И поскорее забыть то, что они оставили в России. Забыть о тифах, сыпняках, брюшных и возвратных, о грязи, о паническом бегстве, о взаимной ненависти и крови.
Не получалось.
…Степан уже махал извозчику диковинной пролетки, украшенной синими и белыми помпонами, когда к Щукину, тяжело дыша, подбежал, снимая форменную фуражку, мальчишка-посыльный с «Константина Павловича».
– Ваше благородие, вас капитан пароходу дуже просют…
Седовласый капитан, в знак почтения, спустился с борта на причал. Он сам отдал Щукину только что полученную каблограмму[42]. Она была от врангелевского представителя в Стамбуле генерала Лукомского.
«Господин Студицкий просит по прибытии во Францию немедленно связаться с послом Маклаковым…»
Щукин задумался. Не оставят его в покое, нет, не оставят. Видно, его опыт и профессиональные знания понадобятся и во Франции. Не Маклакову, конечно. Маклаков, назначенный на должность посла во Франции еще Временным правительством, фигура номинальная. Постольку-поскольку… А вот «господин Студицкий» – один из псевдонимов генерала Климовича, начальника крымской разведки и контрразведки. С его просьбой нельзя не считаться.
И все же Щукин решил продолжать путешествие. Маклаков подождет.
Капитан приложил ладонь к козырьку фуражки.
– Счастливого путешествия. Извините, что получилось не вполне хорошо. Должен сказать, уважаю ваши взгляды.
Этот длиннолицый, повидавший виды моряк, видимо, считал, что Щукин сошел на берег из принципиальных соображений. Пускай…
Все дальнейшее слилось в бесконечную череду впечатлений. Ходили у гигантских мраморных колонн Парфенона, успевшего послужить и христианским храмом, и мечетью, и турецким пороховым складом. Любовались Олимпом с его снежной шапочкой. Выслушали великолепный рассказ Николая Григорьевича об ареопаге греческих богов, об их распрях, сплетнях, любовных историях и, от скуки, бесконечных вмешательствах в человеческие дела. Ночевали в деревянных гостиницах со скрипучими лестницами и похожими на русских сородичей клопами. Только тараканы были невиданно черны и велики.
Портной в Салониках, бежавший из-под Мариуполя, после того как город был дочиста ограблен махновцами, за два дня, без сна, сшил Степану из манчестерского сукна прекрасный костюм. Пустой левый рукав пристегнули выше локтя заколкой, украшенной кусочком горного хрусталя. Бывший шахтер вмиг стал заслуженным ветераном войны.
Из Салоник, на небольшом, но чистом «итальянце», через узкий Коринфский канал вышли в небесно-голубую Адриатику и приплыли в Венецию. Увы, белла Италия тоже была поражена послевоенной нищетой. Ее победа в войне была похожа на поражение. Гондольеры пели с протянутой рукой. Они проплыли по всем каналам мимо дворцов, облупленных, с отсыревшими стенами, но удивительно прекрасных и трогательных в своем медленном гниении.
Степан иногда присвистывал от потрясения. В Риме они пережили заново взлет и падение империи.
Всюду были демонстрации под красными флагами, митинги. Итальянцы в блузах а-ля Гарибальди орали что-то друг другу на перекрестках и площадях. Проходили стройные, хорошо организованные отряды молодых людей в черных рубашках и черных пилотках. У всех на устах было имя – Муссолини. На развалинах, оставшихся в наследство от великой империи, висели портреты человека с выступающим подбородком, очень стремящегося быть похожим на диктаторов античности.
Из Неаполя в Марсель они вышли на французском прогулочном пароходе, который, между Корсикой и Сардинией, ловко протиснулся в пролив Бонифаче и там, уже у берегов Франции, попал в жестокий шторм. Холодный воздух, огромной плотной массой перевалив через Альпы, гнал пароходик от берега. В салоне с удобными креслами, которые служили и сиденьями, и ложами для ночлега, подбрасывало и опускало, как на качелях. Иллюминаторы застилало пеной. Небо было темным. К счастью, никто из них не страдал морской болезнью: порода Щукиных была крепка и жилиста, а Степана вообще ничего не брало.
Шторм пугал и веселил, напоминал об утлости житейской ладьи. Степан, решившись, вдруг сказал, наклонясь к Щукину:
– Вы, конечно, извините, Николай Григорьевич, может, что не по сердцу скажу. А только, видится мне, не так уж плохо, что у нас революция брякнулась, как дурная теща в гости. – И, встретив вопрошающий взгляд строгих, с ястребиной желтизной, зрачков полковника, пояснил: – Ну видите, в былое время вы бы ко мне не снизошли, как ныне. Как к равному. А было бы у нас, как вот те, с собачками, на «Константине Павловиче» хотели. А теперь вот, и большое за то спасибо, всю заграницу мне показали и объяснили. Не погнушались, приподняли меня, темного. И сильно мне хочется теперь про все это еще больше знать. Вот как…