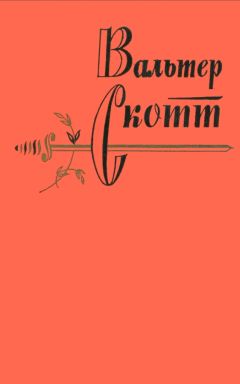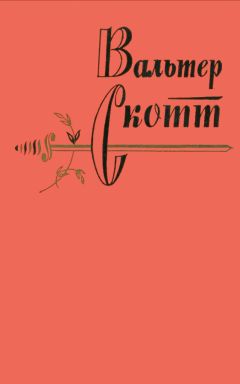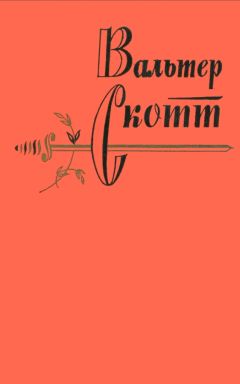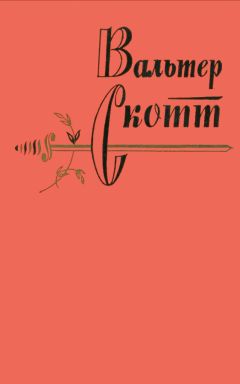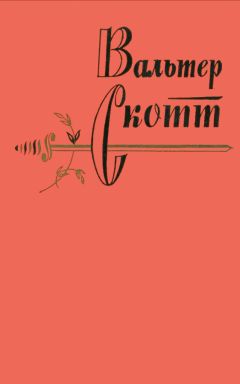Юханан Магрибский - Сказка о востоке, западе, любви и предательстве
Джабраил обхватил собственную голову руками, зажимая уши, закрывая глаза, он бежал прочь с этих улиц, а перед взором его была одна только голова старика Зафарии на копье, с обкромсанной шеей, с белками выкаченных от страха и боли глаз.
Пока же герцогиня и паладин метались по Асиньоне, отчаянно разыскивая герцога, тушил вспыхнувшее пламя пожара его преосвященство епископ Жан де Саборне. Сжав высокие виски тонкими белыми пальцами он, выслушивал донесения и отдавал приказы. Его глаза были прикрыты, щёки горели алым, лихорадочным румянцем, он слушал молча, говорил быстро, отрывисто и тихо. Жан то садился в кресло, то вскакивал вдруг и принимался кружить вокруг стола, на котором была расстелена большая пергаментная карта Асиньоны. Карта была столь велика, что не уместилась на одной шкуре, и потому состояла из двух частей. Изящным почерком начертаны на ней были названия площадей и улиц, и епископ то и дело бросал на неё взгляд.
Теперь его приказов слушались безоговорочно, но только подходили за благословением.
— Сэр Реджинальд, пробейтесь сквозь заслон на Свечной улице, — тонкий белый палец скользил по пергаменту, указывая путь. — Вы обойдёте разбойников с тыла, и ударите в подходящее время. Идите.
— Благословения, ваше преосвященство! — попросил высокий горбоносый рыцарь с покатыми плечами и высокомерным взглядом серых глаз.
— Благословляю тебя на бой, сын мой, — отвечал Жан, словно против воли протягивая руку, и надменный сэр Рэджинальд согнулся дугой, чтобы коснуться губами епископского кольца.
— Сир Гийом де Римо, на восток, по Малой улице, на Базарную. Башню держал сир Фернан де Лиз со своими стрелками, пробейтесь к ним, мы не можем себе позволить оставить их в окружении.
— Благословения, ваше преосвященство!
И вот уже седой старик с вислыми усами и вечно грустным взглядом лобзает перстень, а Жан словно опять застыл, замер, только чуть подрагивали пальцы, нервно прижатые к вискам.
Когда в покои, где собрались вместе с епископом знатные рыцари, шумно ввалились стражники, несущие под руки избитого бродягу, а с ними сир де Крайоси и герцогиня Изольда, епископ Жан едва повернул голову в их сторону. Он бросил взгляд на карту, и рухнул в кресло, прикрывая глаза. Единственной приметой, по которой ясно становилось, что он узнал герцога, был быстрый шёпот на латыни: Господи Всеблагой, Сильный, Бессмертный, слава Тебе!
Джабраил бежал и не видел, как герцог Жоффруа вышел к своим воинам. Герцог едва держался в седле, с двух сторон его поддерживали вновь надевшая доспех Изольда и могучий Шарль де Крайоси.
— Его светлость герцог Жоффруа Асиньонский! — выкрикивал Шарль, и голос его разносился по площади, перекрывая шум.
Воины оборачивались, оглядывались, останавливались. Вглядывались и молчали. Тогда герцогине почудилось вдруг, что они не узнают своего герцога таким, избитым, измождённым, и её сердце сжалось, слёзы выступили на глазах от жалости к любимому мужу, едва не встретившему сегодня смерть; слёзы от несправедливости и краткости народной любви, от страха. Ей хотелось сбросить тяжёлые доспехи, обнять Жоффри, согнать пелену с его потускневших глаз, и бежать вместе с ним прочь из этого города. Ядом жгли её пророческие сердце стихи: уходи навсегда от безумства сражений и битв, уходи, уходи, уходи…
Но Изольда проглотила слёзы, не дозволив им сбегать по лицу, и подняла своей рукой закованную в латы, тяжёлую руку мужа, и безвольный Жоффруа очнулся и сжал кулак, крикнул, и голос его был всё таким же: сильным, хриплым, знакомым каждому бойцу.
Дружный рёв раздался в ответ. Воины приветствовали герцога, поднимая к небу мечи, ударяли копьями о землю. Христиане ликовали, и Изольда вдруг поняла, что Господь дарует им победу. Христиане ликовали, а Жан де Саборне, откинувшись в кресле шептал, чуть слышно: Господи Всеблагой, Сильный, Бессмертный, слава…
И славу пели Господу в главном храме древней Асиньоны, а вороний гвалт хриплым голосом кричал славу своим богам, потому что закончилась безумная ночь, и не пришёл султан на помощь восставшим, и убитых было множество, и пленников казнили безмерно, и головы их украшали нравоучительными набалдашниками копья на городских стенах, плач стоял над усмирённой Асиньоной, и ветер вновь пригнал грозу.
Едва герцог Жоффруа пришёл в себя он велел схватить колдунью Лисаале, и её искали, но не нашли, и герцог только швырнул в ярости кубок о каменную стену. Выслушав донесения своих присных, он вспомнил и купца Джабраила аль Самуди, но и того найти не удалось, не потому ли, что овладело им отчаяние? Джабраил бросил свой дом и всё, что осталось от его богатств, он осыпал голову пеплом, ибо пепла было вдоволь в сожжённом городе, где каждая семья скорбела по умершим, и оделся в лохмотья, и вымазал лицо сажей, и ходил так по разорённым улицам Асиньоны, до того тоскуя порою, что утробный стон самовольно вырывался из его груди, и люди не узнавали его, но не смели преграждать ему путь и мешать его горю. Джабраил жил подаянием, а спал ходах, прорытых когда-то под Асиньоной, чтобы сточные воды проливных дождей сбегали по ним, но теперь пришедших в упадок и совершенно заброшенных, если не считать таких же как он нищих и безумцев, облюбовавших подземелья. Кровью, горем и поражением обернулось для асиньонцев восстание! Всеблагой Господь, даровав удачу в каждом замысле, отнял её в главном, и в этом Джабраил винил себя, и не находил покоя. Каждый день он ходил под стенами и всматривался до рези в глазах в распухшие, почерневшие лица насаженных на копья голов. Порой ему казалось, что он узнал по густым чёрным усам Ибрагима, но на другой день совсем другая голова глядела на него тем же прямым детским взглядом, и он уже ничего не понимал, а вороны пировали без разбора, и Джабраил не мог их прогнать, как ни старался кричать или швырять камнями, безразличные к его горю птицы возвращались и склёвывали с черепов почерневшую плоть.
Когда же сам вид Асиньоны сделался ему невыносим, он пристал к каравану и ушёл прочь, скитаясь по Святой земле, покуда ноги не принесли его в далёкую Лакхву, в которую часто приводил он богатые караваны, и которая помнила его ещё щедрым купцом, и были в ней те, кто помнил Джабраила поэтом. И, узнав его на улицах Лакхвы, друзья покормили и напоили его, облачили в новое платье, и не решились ни о чём расспрашивать, и тогда его сердце обрело, среди друзей и родных, недолгий покой.
И время летело, распахнув над беспокойной Асиньоной широкие чёрные крылья. Король Филипп усмирял непокорных и не раз призывал герцога на помощь, и каждый раз герцог собирал верные войска и оставлял Асиньону, чтобы встать под знамёна крестоносного короля, и в сражениях гибли сотни, щедро сдабривая кровью скудную почву, и всё чаще сдавал крепости христианский король. Часто после долгой битвы Филипп звал Жоффруа в свой шатёр, предлагал его светлости вина, а сам пускался в воспоминания о широких долинах родного края, о густых лесах, свежем ветре и чистых озёрах, о красоте придворных дам и доброте крестьянок, но Жоффруа упорно молчал, не давая себе вспоминать Францию, сжимал зубы и твердил себе, что его смешливый брат, любитель пиров и песен, давно уже, наверное, по молчаливому согласию придворных, называет себя графом Эрльнским, а он, Жоффруа, герцог Асиньонский, и судьбою уготовано ему умереть в Святой земле.