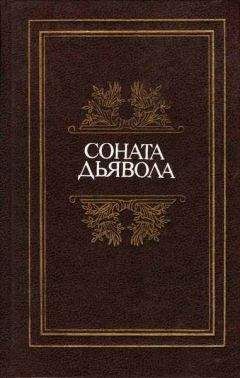Александр Дюма - Полина
Мы сели на скамью под величественным платаном, который своей вершиной закрывал часть сада. Начал я свою повесть с самого приезда в Трувиль. Рассказал ей, как был захвачен бурей и выброшен на берег; как, отыскивая убежище, набрел на развалины аббатства; как, будучи разбужен шумом двери, увидел человека, выходившего из подземелья; как этот человек зарыл что-то под камнем и как я оказался с тех пор связанным с тайной, в которую решил проникнуть. Потом рассказал ей о моем путешествии в Див, о полученной, там роковой новости и отчаянном намерении увидеть ее еще раз; об удивлении своем и радости, когда увидел под смертным покрывалом другую женщину; наконец, о ночном путешествии, о ключе под камнем, о входе в подземелье, о счастье и радости своей, когда нашел ее. Я рассказал ей все это с тем выражением чувств, которое, не говоря ничего о любви, заставляет ее биться в каждом произносимом слове. И в то время, когда говорил, я был счастлив и вознагражден. Я видел, что этот страстный рассказ передал ей мое волнение, и некоторые из моих слов захватили ее сердце. Когда я окончил, она взяла мою руку, пожала ее, не говоря ни слова, и некоторое время смотрела на меня с чувством ангельской признательности. Потом прервала молчание:
— Дайте мне клятву.
— Какую? Говорите.
— Поклянитесь мне самым для вас священным, что вы не откроете никому на свете моей тайны, по крайней мере до тех пор, пока я, мать моя или граф будем живы.
— Клянусь честью! — ответил я.
— Теперь слушайте.
Глава VII
Нет надобности говорить вам о моей семье, вы ее знаете: моя мать, несколько дальних родственников, вот и все. Я имела порядочное состояние…
— Увы! — прервал я. — Почему вы не были бедны!
— Мой отец, — продолжала Полина, не показывая, что она заметила, с каким чувством это было сказано, — оставил после смерти сорок тысяч ливров ежегодного дохода. Кроме меня, не было других детей, и я вступила в свет богатой наследницей.
— Вы забываете, — сказал я, — о своей красоте, соединенной с блестящим воспитанием.
— Вы беспрестанно перебиваете меня и не даете продол жать, — отвечала мне, улыбаясь, Полина.
— О! Вы не можете рассказать, как я, о том впечатлении, которое вы произвели в свете: эта часть истории известна мне лучше, чем вам. Вы были, не подозревая сами, царицей всех балов, царицей с почетным венком, незаметным только для ваших глаз. Тогда-то я увидел вас. В первый раз это было у княгини Бел… Все, что только было знаменитого и известного, собралось у этой прекрасной изгнанницы Милана. Там пели, и виртуозы наших гостиных поочередно подходили к фортепьяно. Все самое прекрасное в музыке и пении соединилось тут, чтобы восхитить толпу дилетантов, всегда удивляющуюся, встречая в свете то совершенство в исполнении, которого мы требуем и так редко находим в театре. Потом кто-то начал говорить о вас и произнес ваше имя. Отчего мое сердце забилось при этом имени, произнесенном в первый раз при мне? Княгиня встала, взяла вас за руку и повела, почти как жертву, к этому алтарю мелодии. Скажите мне, отчего, когда я увидел ваше смущение, страх охватил меня, как будто вы были моей сестрой, хотя я знал вас не более четверти часа? О! Я дрожал, может быть, более, чем вы, но вы были далеки от мысли, что в этой толпе есть сердце, родное вашему, которое страшилось вашим страхом и восхищалось вашим торжеством. Ваши уста открылись, и мы услышали первые звуки голоса, еще дрожащего и неверного. Но вскоре ноты сделались чистыми и звучными, ваши глаза поднялись от земли и устремились к небу. Толпа, окружавшая вас, сомкнулась, и не знаю даже, услышали ли вы ее рукоплескания: ваша душа, казалось, парила над нею. Это была ария Беллини, мелодичная и простая, однако полная слез, какую мог создать один только он. Я не рукоплескал вам — я плакал. Вы возвратились на свое место при шуме похвал. Но я не смел подойти к вам и сел так, чтобы видеть вас постоянно. Вечер продолжался. Музыка потрясала восхищенных слушателей своей гармонией. Я же ничего не слышал с тех пор, как вы отошли от фортепьяно, все мои чувства сосредоточились на одном: я смотрел на вас. Помните ли вы этот вечер?
— Да, я припоминаю его, — сказала Полина.
— Потом, — продолжал я, не думая, что прерываю ее рас сказ, — я услышал однажды не эту самую арию, а народную песенку, мелодия которой была близка ей. Это было в Сицилии, вечером одного из тех дней, которые созданы только для Италии и Греции. Солнце едва скрылось за Джирджентами, древним Агригентом. Я сидел возле дороги. По левую сторону от меня в вечернем сумраке терялся морской берег, усеянный развалинами, среди которых возвышались три храма; за берегом простиралось море, неподвижное и блестящее, как серебряное зеркало. По правую сторону резкой чертой отделялся от золотого фона город, как на одной из картин первой флорентийской школы, которые приписывают Гадди и которые помечены именами Чимабуэ или Джотто. Поблизости от меня молодая девушка возвращалась от фонтана, неся на голове древнюю амфору и напевая песенку, о которой я говорил вам. О, если бы вы знали, какое впечатление произвела на меня эта песенка! Я закрыл глаза и опустил голову на грудь: море, берег, храмы, все исчезло, даже эта девушка, которая, как волшебница, отодвинула меня на три года назад и перенесла в салон княгини Бел… Тогда я опять увидел вас, опять услышал ваш голос и, смотрел на вас с восторгом. Но вдруг глубокая печаль овладела мной, потому что в то время вы уже не были молодой девушкой, которую я так любил, и которую называли Полина Мельен, вы были графиней Безеваль… Увы!.. Увы!..
— Да, увы! — прошептала Полина.
Прошло несколько минут в молчании. Полина первая его прервала.
— Да, это было прекрасное, счастливое время моей жизни, — сказала она. — Ах! Молодые девушки не понимают своего счастья; они не знают, что несчастье не смеет дотронуться до целомудренного покрывала, которое закрывает их и которое муж некогда сорвет с них. Да, я была счастлива в течение трех лет. В эти три года едва ли омрачилось солнце моих дней, едва ли затемнялось оно, как облаком, каким-нибудь невинным волнением, которое молодые девушки принимают за любовь. Лето мы проводили в своем замке Мельен, на зиму возвращались в Париж. Лето проходило в деревенских праздниках, а зимы едва достаточно было для городских удовольствий. Я не думала, чтобы жизнь, такая тихая и спокойная, могла когда-нибудь омрачиться. Я была весела и доверчива. Так мы прожили до осени 1830 года.
По соседству с нами находилась дача госпожи Люсьен, муж которой был большим другом моего отца. Однажды вечером она пригласила нас, меня и мою мать, провести весь следующий день у нее в замке. Ее муж, сын и несколько молодых людей, приехавших из Парижа, собрались там для кабаньей охоты, и большой обед должен был прославить победу нового Мелеагра. Мы дали слово.