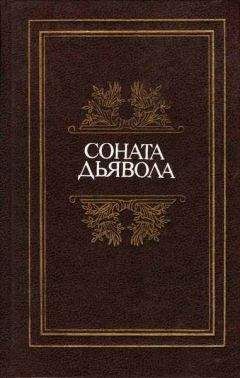Александр Дюма - Полина
— Неужели вы думаете, — сказала она, не меняя положения, — что можно оставить навсегда отечество, семью, мать без того, чтобы сердце не разорвалось на части? Что можно перейти если не от счастья, то, по крайней мере, от спокойствия к отчаянию без того, чтобы сердце не облилось кровью? Неужели вы думаете, что в мои годы переплывают океан, чтобы влачить остаток жизни в чужой земле, и не смешивают слез с волнами, которые уносят вас от всего, что вы любили?
— Но разве это навсегда?
— Навсегда, — сказала она, качая головой.
— И тех, о которых вы жалеете, не увидите никого?
— Никого?
— И все без исключения и навсегда не должны знать, что та, которую считают умершей, живет и плачет?
— Все… навсегда… без исключения…
— О! — вскричал я. — Как я счастлив, какая тяжесть свалилась с моего сердца!..
— Я не понимаю вас, — сказала Полина.
— Вы не знаете, сколько сомнений и страхов пробудилось во мне! Но неужели вы не хотите услышать, волей какого случая я пришел к вам, чтобы, благодаря Небо за спасение свое, знать, какие средства оно для этого употребило?
— Да, вы правы, брат не должен иметь никаких тайн от сестры… Вы расскажете мне все, и в свою очередь я не скрою от вас ничего…
— Ничего… О, поклянитесь мне! Вы позволите мне читать в вашем сердце, как в открытой книге?
— Да… и вы найдете в нем одно несчастье, покорность судьбе и молитву… Но теперь не время. Притом я так близка ко всем этим страшным событиям, что еще нет сил рассказывать о них.
— О, когда хотите — я буду ждать.
Она встала:
— Я хочу успокоиться. Вы, кажется, говорили, что мне можно спать в этой палатке?
Я проводил ее туда, разостлал свой плащ на полу и вышел на палубу. Я сел на том самом месте, которое занимала Полина, и пробыл в таком положении до самого приезда в Гавр,
На другой день вечером мы сели на корабль «Бригтон» и через шесть часов были в Лондоне.
Глава VI
Первым моим делом по приезде было отыскать помещение для себя и сестры. В тот же день я отправился к банкиру, у которого был аккредитован; он показал мне небольшой домик с мебелью, очень удобный для двоих. Я поручил ему снять его, и на другой день получил ответ, что дом в моем распоряжении.
Графиня еще спала, когда я отправился в магазин. Там мне набрали полный комплект белья, довольно простого, но сделанного с большим вкусом; через два часа оно было помечено именем Полины де Нерваль и перенесено в спальню той, для которой оно предназначалось. Потом я зашел к француженке-модистке, которая так же быстро снабдила меня всем необходимым. Что же касается платьев, то я взял несколько кусков материи, самой лучшей, какую только мог найти, и попросил модистку прислать ко мне в тот, же вечер швею.
Возвратясь домой в двенадцать часов, я узнал, что моя сестра проснулась и ждет меня к чаю. Я нашел ее одетой в очень простое платье, которое успели сделать ей за те двенадцать часов, что мы провели в Гавре. В нем она была прелестна!
— Не правда ли, — сказала она, увидев меня, — мой костюм соответствует моему новому положению, и вы теперь не затруднитесь представить меня в качестве гувернантки.
— Я сделаю все, что вы прикажете, — сказал я.
— Но вам не так надо говорить, и если я верно исполняю свою роль, то вы, кажется, забываете вашу. Братья не должны слепо повиноваться желаниям своих сестер, в особенности старшие братья. Вы изменяете себе: берегитесь.
— Удивляюсь вашему присутствию духа, — сказал я, глядя на нее, — печаль в глубине сердца, потому что страдаете душой, бледность на лице, потому что испытываете физические страдания; ушли навсегда от всего, что любили, как сами мне сказали, — и у вас есть силы улыбаться? Нет, плачьте, плачьте, мне это больше по душе и не так печалит.
— Да, вы правы, — сказала она, — я самая дурная комедиантка. Слезы видны сквозь мою улыбку, не правда ли? Но я плакала все время, когда вас не было, и мне стало легче, так что на взгляд менее проницательный и менее внимательный я все уже забыла.
— О, будьте спокойны, сударыня! — сказал я с горечью, потому что все мои подозрения вернулись. — Будьте спокойны, я не поверю этому никогда.
— Можно ли забыть свою мать, когда знаешь, что она считает тебя мертвой и оплакивает твою кончину?.. О мать моя, бедная мать! — вскричала графиня, утопая в слезах и падая на диван.
— Посмотрите, какой я эгоист, — сказал я, приближаясь к ней, — я предпочитаю слезы вашей улыбке: слезы доверчивы, улыбка скрытна. Улыбка — это покрывало, которым закрывается сердце, чтобы лгать… Когда вы плачете, мне кажется, я вам нужен, чтобы осушить ваши слезы, и надеюсь, что когда-нибудь заботами, вниманием, почтением утешу вас. А если вы уже утешены, то какая надежда мне остается?
— Альфред! — сказала графиня с глубоким чувством признательности, в первый раз называя меня по имени. — Перестанем обмениваться пустыми словами, между нами произошло столько странных вещей, что нам не нужны ни хитрости, ни извороты.
Будьте откровенны, спросите меня, что вам хочется узнать, и я отвечу вам.
— О, вы ангел! — вскричал я. — А я сумасшедший: я не имею права ничего знать, ни о чем спрашивать. Разве я не был счастлив настолько, насколько может быть счастлив человек, когда нашел вас в подземелье; когда, сходя с горы, нес вас на руках; когда вы опирались на мое плечо в лодке? Мне бы хотелось, чтобы вечная опасность угрожала вам, чтобы сердце ваше дрожало подле моего. Это существование, полное таких ощущений, было бы непродолжительно… Не более года прошло бы — и сердце разорвалось бы на части. Но какой долгой жизни не променяешь на подобный год? Тогда вы были бы отданы вашему страху, и я один был бы всей вашей надеждой. Воспоминания о Париже не стали бы мучить вас. Вы не прибегнули бы к улыбке, чтобы скрыть от меня ваши слезы, я был бы счастлив!.. Я не ревновал бы.
— Альфред, — сказала с важностью графиня, — вы сделали для меня столько, что я могу сделать что-нибудь для вас. Впрочем, надо много страдать, чтобы говорить со мной таким образом, потому что вы забыли о том, что я нахожусь в полной зависимости от вас; вы заставляете меня краснеть за себя и страдать за вас.
— Простите, простите! — воскликнул я, падая на колени. — Вы знаете, что я любил вас молодой девушкой, хотя никогда не говорил вам этого; знаете, что только недостаток состояния препятствовал мне искать вашей руки; знаете, что с того времени, как я нашел вас, эта любовь, уснувшая, но не погасшая, вспыхнула сильнее и ярче, чем когда-то. Вы это знаете, потому что нет надобности говорить о таких чувствах. И что же? Я страдаю, когда вижу вашу улыбку, как и ваши слезы. Когда смеетесь, вы что-то скрываете от меня; когда плачете — сознаетесь мне во всем. Ах! Вы любите, вы сожалеете о ком-нибудь?