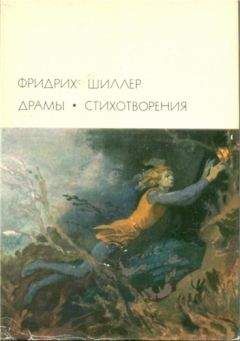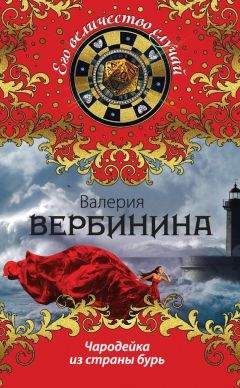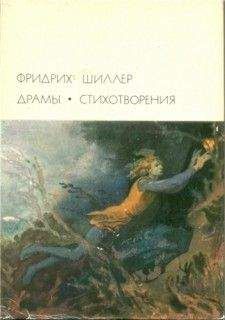Владимир Нефф - Прекрасная чародейка
— Я давно удивляюсь тому, — сказал шевалье, — что человек столь всесторонне одаренный, как вы, наделенный всеми дарами, какие только могли положить в его колыбель Парки, болтается по миру, никому не ведомый и с пустыми карманами. Но не исключено, что все, в чем судьба вам до сих пор отказывала, она еще воздаст вам сторицей. Я решил поставить на вас. Кукан. Не разочаруйте меня.
У веритариев был свой лекарь, имевший цветущую практику в Арнштадте, пока война не лишила его дома и семьи. Этот серьезный и добросовестный ученый взялся лечить страшным образом изувеченную Либушу, которая более чем нуждалась во врачебной помощи, и лечил ее успешно при самоотверженной помощи Франты — тот загорелся страстью к прекрасной колдунье и ухаживал за ней днем и ночью. А веритарии, славные ребята, подшучивали над нескрываемой влюбленностью этого верзилы и хватались за животики, когда во время болезненных медицинских приемов, которые сами по себе были новой пыткой, например, когда врач вправлял вывихнутые суставы или складывал косточки размозженных ступней несчастной, Франта сопровождал стоны Либуши собственным страдальческим поскуливанием. Одно второстепенное обстоятельство бросилось в глаза веритариям: Либуша не проявляла к Петру, спасшему ее с риском для жизни, ни намека на благодарность и относилась к нему холодно, если не враждебно. Но таковы уж женщины, говорили веритарии, сплетничая о Либуше у вечерних костров.
Дни сменялись днями, и им все более странным казалось, что о смерти Вальдштейна нигде ничего не слыхать, но вера в неспособность Петра лгать была так тверда, что им в голову не приходило усомниться в правдивости его утверждения. Вена, думали они, по каким-то проклятым политическим соображениям, видно, держит дело в тайне, но вечно скрывать этого она не сможет и в один прекрасный день вынуждена будет признать сей факт. А когда она его признает, тут-то и до конца войны будет совсем рукой подать.
В смерть Вальдштейна, как ни странно, поверил даже самый хитрый, самый ушлый, самый осведомленный из веритариев, Медард; он, как мы знаем, поддерживал тайную связь с Вальдштейном за спиной Петра, а после возвращения того из Праги Медарду перестали доставлять из герцогского дворца почтовых голубей, и это утвердило проповедника в том, что Вальдштейн и впрямь отправился к праотцам. Но осторожность никогда не помешает, и Медард в доверительной беседе спросил Петра, точно ли тот уверен, что Вальдштейн не был только ранен, и не мог ли он оправиться от раны? Ответ Петра был столь твердым и однозначным, что Медард отбросил все сомнения, если они у него еще оставались.
Ну, а как, спрашивается, действовал наш герой в это переходное время, когда высиживалось чертово яичко? Прекрасно он действовал, будьте уверены, действовал так, как и подобает настоящему человеку, человеку правды и чести. Ни одним движением бровей не выдавая понятное и простительное нетерпение, распиравшее его грудь, он заботился о своих веритариях, стремясь к тому, чтобы жизнь их не проходила впустую, минуя цели, поставленные им перед собой. В середине того года огромная армия — ее называли вальдштейновской, или императорской, — насчитывавшая до сорока тысяч вооруженных мужей, вышла в поход. Тогда и веритарии покинули зимние квартиры в Тюрингенском лесу и двинулись на восток, к предполагаемому театру военных действий, то есть к Силезии. Как и прежде, Петр водил своих воинов в карательные экспедиции против грабителей и мародеров; стало быть, с точки зрения веритариев, его нельзя было ни в чем упрекнуть — однако выполнял он свои обычные обязанности теперь только машинально. Мысли его при этом блуждали совсем в иных сферах; его беспокоил и волновал вопрос: а может, предпринимавшиеся им в юности попытки спасти мир, от которых он давно отказался, признав их невыполнимость, все-таки как-то были оправданы? Более того, не были ли эти попытки проявлением особенности его, Петра, натуры, некоей особой благодати, как кто-то когда-то ему говорил, — благодати, которая прежде выражалась только в мессианских попытках и мечтах и лишь в расцвете его лет скажется в полной мере? Вальдштейн, перед тем как умереть в подвале своего дворца, быть может, болтал пустое — но, взятая в целом, болтовня эта была так логична, что не могла быть только порождением больного мозга тщеславного полусумасшедшего. По крайней мере, то, что он сказал о возможности брака Петра с хорошенькой принцессочкой, свидетельствовало о точной и трезвой осведомленности герцога. Но тогда — почему же ничего не происходит? Почему мир молчит, ни словом не показывает, что нуждается в его, Петра, помощи, в его благодати, его гениальности?
Петр не знал, что ничего не происходит потому, что, как уж бывает, не может дело развиваться так гладко и прямолинейно, как он, Петр, того желал бы и как представлял себе в муках нетерпения. Тем, кто в шведском лагере, в духе предсмертного желания Густава Адольфа, держал сторону герцога Страмбы, то есть Петра Куканя, кем бы этот Петр ни был и откуда бы ни явился, противостояла тесно сомкнутая клика оппонентов, объявивших странное последнее желание короля дерзкой выдумкой и взывавших к здравому смыслу, который повелевал возвести на чешский трон не какого-то неведомого авантюриста, а человека во всех отношениях испытанного — герцога Мекленбургского, Фридляндского, а также еще и Заганского и Глогувского, то есть Альбрехта Вальдштейна. Они, разумеется, не знали еще, что герцога уже нет в живых.
Эта клика Вальдштейновых приверженцев одерживала верх до того рокового момента, когда, как сказано, Михль, принимаемый за Вальдштейна, своим нелепым, малодушным, половинчатым ответом — теперь-де еще не время, — обманул, ошеломил и оскорбил шведов, которые наконец-то, после стольких лет тайных переговоров, предложили ему союзничество. Этих нескольких слов дурака Михля оказалось достаточно, чтобы все симпатии шведов, все их устремления, до той поры противоречивые, разом перекинулись на сторону герцога Страмбы. И поворот этот произошел столь стремительно, что не прошло и двух недель, как в лагерь веритариев на Одере, расположенный поблизости от войск генералиссимуса Вальдштейна, прикатила неброская, небольшая, но охраняемая сильным отрядом карета с двумя сановными шведами из правительственных кругов. Один из них был богатый граф, другой — разорившийся князь, причем ни тот ни другой не были настолько высокими и значительными особами, чтобы их прибытие в лагерь разбойников (ничего не поделаешь, веритарии, при всей их правдивости и праведности, считались разбойниками) произвело впечатление непристойности; но, с другой стороны, то были особы достаточно высокие и значительные, чтобы начальник разбойников не чувствовал себя оскорбленным официальным визитом второстепенных дипломатов. Герцог Страмбы и не оскорбился, а встретил и принял гостей с грацией и церемонностью, быть может, несколько старомодными, в духе манер конца века, но совершенными по форме. Он провел обоих по лагерю, четкая воинская организация которого и строгая дисциплинированность, ясно написанная на грубых лицах веритариев, произвели на гостей, разумеется, самое благоприятное впечатление. Познакомив прибывших со своими ближайшими сподвижниками, Медардом и де ля Прэри, Петр увел их в свой бархатный шатер, раскинутый в тени гигантского векового дуба, который был могучим и высоким уже в те поры, когда Христофор Колумб только начал помышлять о кругосветном путешествии. Здесь Петр угостил шведов вином, качество коего с появлением де ля Прэри значительно улучшилось, и, ознакомившись с двумя привезенными документами — один был скреплен папской печатью, второй — печатью придворной королевской канцелярии Швеции, — провел с ними около часу в серьезном и содержательном разговоре. Тем временем солдаты охраны высоких посетителей, утомленные жарой июльского дня, в полном согласии с веритариями, активно утоляли жажду, прополаскивали глотки, забитые пылью долгого пути, и столь охотно удовлетворяли любопытство хозяев, что Медардову шпиону, подслушивавшему у Петрова шатра, нечего было докладывать о результатах беседы кроме того, что знали уже все веритарии, а именно, что шведы действительно, как сказал Вальдштейн, хотят посадить Петра на чешский трон. О смерти же Вальдштейна в верхах еще ничего не известно, вернее, известно очень хорошо, ибо такое дело не знать нельзя, но Вена никак не раскачается объявить об этом. А Петр едет теперь в Италию, чтобы снова взять под свою руку герцогство Страмба и обвенчаться там с той молоденькой принцессой, которую они, веритарии, выручили из передряги прошлым летом.