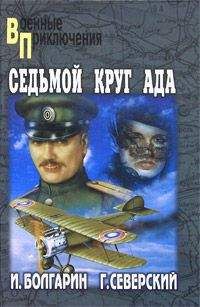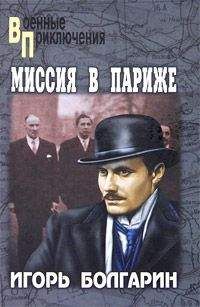И. Болгарин - Адъютант его превосходительства
Ковалевский отбросил карандаш, сел в кресло и удивленно Смотрел на сидящего напротив Щукина.
– Что вы сказали? – спросил он, весь подавшись вперед.
– Я сказал, что ничего этого не будет. Ни выступления Центра, ни захвата большевистского правительства, – безжалостно, с горечью повторил Щукин и затем объяснил: – Центр несколько дней назад разгромлен чекистами.
Ковалевский схватился за пенсне, снял его и опять надел.
– Откуда вам это известно?
– Получил почту от Николая Николаевича, – жестко продолжал Щукин, находя утешение в том, что не только его преследуют неудачи.
Ковалевский привалился к спинке кресла и несколько мгновений сидел так с закрытыми глазами. А Щукин не решался продолжать. Наконец Ковалевский открыл глаза, спросил отчужденно:
– Ну и что сообщает Николай Николаевич?
– У них в штабе зачитывали ориентировку за подписью Дзержинского. Он мне переслал ее копию. Подробностей там никаких. Перечисляются лишь арестованные руководители.
Ковалевский монотонным, усталым голосом спросил:
– И кто же?
– Многие из них занимали большие посты в Красной Армии. Миллер, например…
– Василий Александрович? Когда-то я его знал, – сказал Ковалевский.
– Миллер был начальником окружных курсов артиллерии и читал лекции кремлевским курсантам. Последнее время числился военным референтом Троцкого.
– Это, однако, не помешает чекистам расстрелять его, – саркастически усмехнулся Ковалевский. Он озабоченно барабанил по столу пальцами, напряженно о чем-то думая. Щукин Затаенно ждал. – Скажите, а не может в один далеко не прекрасный день такая же участь постигнуть и Николая Николаевича?
– Чека – серьезный противник, – вместо ответа сказал Щукин. – Но Николай Николаевич осторожен и хорошо законспирирован.
– Таких людей надо ценить! – вздохнул командующий. – Уже за одно то, что он для нас сделал, ему нужно отлить при жизни памятник. Ибо нет таких наград, которыми бы можно было по достоинству оценить его вклад… Кстати, вы можете срочно с ним связаться?
– Могу, ваше превосходительство.
Ковалевский снова склонился над картой.
– Смотрите сюда! – пригласил он Щукина. И опять лупа медленно закружилась над темными и четкими линиями железных дорог, над голубыми изгибами рек. – Корпус генерал-лейтенанта Мамонтова громит сейчас большевистские тылы вот здесь, северо-восточное Воронежа, – продолжал Ковалевский. – Но его берут в кольцо, теснят. Над корпусом нависла угроза. Мамонтову самое время прорываться обратно. Но кто, кроме Николая Николаевича, может указать участок фронта, наиболее удобный для прорыва? – Ковалевский сделал выжидательную паузу и, глядя на начальника контрразведки, сказал: – Кстати, штаб двенадцатой армии красных недавно переместился вот сюда, в Новозыбков.
Карандаш командующего лег почти плашмя на карту. Острие его упиралось в мало кому известное и странно звучащее название: «Новозыбков».
– Я об этом уже осведомлен, – ваше превосходительство, – отозвался Щукин и четко добавил: – Планирую днями отправить туда связного.
Таня с особым нетерпением ждала новой встречи с Кольцовым. Но шли дни
– однообразные, скучные, дни-близнецы, и от того давнего, чудесного настроения ничего не осталось. Печаль питается печалью, надежда – ожиданием, но ожидание не может длиться бесконечно, ему нужен выход, нужна какая-то определенность… А теперь еще разговор с отцом – резкий, почти до разрыва…
Конечно, ей нужно с Павлом Андреевичем объясниться. Он должен ее понять, он такой внимательный и сильный, не похожий ни на кого из офицеров. Ей только необходимо найти для этого нужные слова.
Лихорадочным движением, вся во власти немедленного действия, Таня вырвала листок из блокнотика и, не отрываясь и почти не вдумываясь в смысл как бы со стороны приходящих слов, стала быстро писать. Слова обидные, смешные, невнятные безрадостно, даже как-то обречено, ложились на бумагу… Затем она недовольно перечитала письмо и отбросила листок к краю стола.
Нужные слова упорно не шли. Получалось то слишком резко, то прорывался какой-то омертвело-чванливый, совершенно ей не свойственный тон, то начинали звучать сентиментально-истерические нотки.
Она подошла к окну и растворила его – в комнату хлынула прохлада. Было еще рано-рано, только что отбелило небо, в глубине улицы зябли сады и поднималось голубоватое облачко – последние остатки предрассветного тумана.
Улица все больше оживала, в соседних домах стали раскрываться окна, появились и офицеры, совсем не щегольского вида-верха фуражек мятые и шаги у них семенящие, мелкие, поспешные… Все куда-то спешат, всем что-то надо. А вот она одна, никому не нужна. Ну что убавится в мире, если она умрет?.. Мир не заметит этой убыли…
Как ни странно, она почти совсем не думала или боялась думать о той женщине, из-за которой Кольцов ввязался в драку, хотя сообщение отца об этом огорчило ее.
Нет, ложь и двоедушие чужды Павлу. Она была уверена в этом… Просто он не мог допустить, чтобы в его присутствии унизили или оскорбили женщину, и этот поступок говорит в его пользу, а не наоборот…
И сейчас, утром, еще раз перебирая свои ночные мысли, Таня отчетливо поняла, что ей нужно обязательно увидеться с Кольцовым. Именно увидеться, а не объясняться с ним в письмах.
Какое-то внутреннее, чрезвычайно обострившееся чутье подсказывало ей, что это единственно правильное решение…
Присев к столу, она быстро набросала записку, всего несколько строк, и, перечитав, запечатала листок в конверт, наспех причесалась возле зеркала и стремительно вышла из дому.
Юра сидел на своем обычном месте, на скамейке возле штаба. Ему сегодня не читалось. Он рассеянно посматривал на посетителей, снующих взад и вперед. Приходили и уходили важные господа во фраках и в котелках, подъезжали на автомашинах внушительные офицеры, приезжали на конях запыленные и усталые, в смятых фуражках и погонах торчком, нижние чины, на лестнице на ходу выдергивали из планшеток пакеты, сдавали их в штабе и тут же торопливо уезжали. Ритм жизни штаба изменился, стал более быстрым и нервным. Непосвященный в штабные дела Юра и тот догадывался, что готовится нечто важное…
– Юра! Вас, кажется, так зовут? – услышал он возле себя чей-то ласковый голос. Подняв голову, он увидел стоящую рядом Таню Щукину. Он не видел ее давно, с тех пор как они вместе были в театре. Юра отметил про себя, что лицо ее осунулось и побледнело, глаза смотрели то ли ласково, то ли печально.
– Я вас слушаю, мадемуазель, – сказал – он, вставая.
– Я просила бы вас выполнить одну мою просьбу.