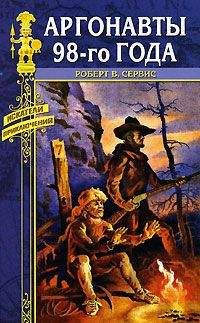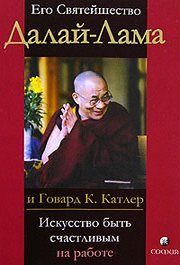Роберт Сервис - Аргонавты 98-го года. Скиталец
Тут я выругал себя за чрезмерную чувствительность и спустился вниз. У меня была каюта под номером 47. Мы трое разошлись в сутолоке, и я не знал, кто будет моим товарищем по койке. В очень подавленном настроении я вытянулся на верхней койке и предался грустному раскаянию. Я слышал, как подняли последние сходни, слышал громкое ликование толпы и мерное трепетание машин, но не мог оторваться от своих дум. Снаружи была суета, надвигалась темнота. Вдруг у моей двери раздались голоса. Горловые звуки смешивались с мягкими. Затем раздался робкий стук. Я быстро ответил на него.
— Это каюта номер 47? — спросил нежный голос. Прежде чем она заговорила я догадался, что это была еврейская девушка с серыми глазами. Я увидел теперь, что волосы ее напоминали светлое облако, а лицо было хрупко, как цветок. «Да», — ответил я.
Она ввела старика:
— Это мой дедушка. Слуга сказал нам, что это его каюта.
— Прекрасно, — ответил я, — я думаю, что ему будет удобнее на нижней койке.
— Да, благодарю вас; он старый человек и не очень крепкого здоровья. — Ее голос был чист и приятен, в нем звучала бесконечная нежность.
— Вы можете войти, — сказал я. — Я оставлю вас с ним, чтобы вы помогли ему устроиться получше.
— Спасибо еще раз, — ответила она с благодарностью.
Я ушел и, вернувшись, уже не нашел ее, старик же мирно спал. Я снова вышел на палубу. Мы рассекали иссиня черную ночь и вправо от нас я едва мог различить берег, изрезанный мигающими огнями. Все уже ушли вниз и одиночество было мне приятно. У меня было легко на душе и я думал о том, как хорошо все вокруг: благовонный ветер, бархатистый свод ночи, усеянный задумчивыми звездами, и свободная песня моря. Все успокаивало, подкрепляло и ласкало. Вдруг я услышал рыдание, безутешное рыдание, вырывавшееся из женской груди. Мучительное и настойчивое, оно ясно долетало до меня, выделялось на фоне глухого ропота моря. Я оглянулся. В тени верхней палубы я смутно различил одиноко приютившуюся девическую фигуру. Это была девушка с серыми глазами, в припадке горя от которого, казалось, разрывалось ее сердце. «Бедная маленькая нищая!» — пробормотал я.
ГЛАВА II
— Грр… Грр… ты паскудница! Если ты покажешь ему свое лицо, я убью тебя, убью тебя, слышишь?
Голос принадлежал мадам Винкельштейн, и слова эти, произнесенные с невероятной злостью, свистящим шепотом, поразили меня, как электрический ток. Я прислушался. За дверью каюты воцарилось зловещее, напряженное молчание. Затем раздался глухой удар, и тот же дикий шепот: «Послушай, Берна, мы хорошо знаем твои штуки. Нас не проведешь. Мы знаем, что у старика спрятаны в поясе две тысячи банковскими билетами. Так вот, моя дорогая, мой сладкий ангелочек, который думает, что она слишком хороша, чтобы смешиваться с такими, как мы, нам нужны денежки, видишь ли (хлоп, хлоп), и мы намерены добыть их, видишь ли (хлоп, хлоп). Вот когда ты можешь пригодиться, душечка, ты должна раздобыть их для нас (хлоп, хлоп, хлоп). Не правда ли, ты теперь сделаешь это, милочка (хлоп, хлоп, хлоп).
Едва, едва расслышал я слабый ответ: «Нет».
Если возможно вскрикнуть шепотом, женщина сделала это.
— Ты сделаешь это, сделаешь. О! О! О! В тебе сидит проклятое ослиное упорство твоей матери. Она никогда не хотела назвать имени человека, который погубил и опозорил ее.
— Не смейте говорить о моей матери, гадкая женщина.
Я услышал голос мегеры, звучавший неслыханной яростью:
— Гадкая женщина, гадкая женщина? Ты, ты смеешь называть меня гадкой женщиной, меня, которая трижды сочеталась святым таинством брака… Ах ты незаконное отродье, прелюбодейный щенок, грязная накипь. О, я проучу тебя, хотя бы меня повесили за это. — Эти брызжущие ядом слова были покрыты ругательством, слишком гнусным, чтобы быть повторенным, и снова раздалось ужасное хлопанье, как будто чья-то голова билась о деревянную обшивку. Не в силах выносить это дольше, я резко постучал в дверь. Молчание, долгое и томительное молчание. Затем звук падающего тела. Потом дверь немного приоткрылась, и в ней появилось искаженное лицо Мадам.
— Не болен ли кто-нибудь? — спросил я. — Простите за беспокойство, но мне послышались стоны, и я решил спросить, не могу ли быть чем-нибудь полезным.
Она пронизывающе посмотрела на меня. Ее глаза сузились в щелки и сверлили меня своей злостью. Ее темное лицо распухло от бессильной ярости, казалось она готова была убить меня. Затем выражение ее молниеносно изменилось. Грязной, унизанной кольцами рукой, она пригладила свои растрепанные волосы. Крупные белые зубы засверкали в притворно сладкой улыбке. Голос сделался мелодичным.
— О, это пустяки! У моей племянницы болят зубы, но я надеюсь, что мы справимся с этим сами. Нам не нужно помощи. Благодарю вас, молодой человек.
— О, не стоит, — сказал я. — Если вам что-нибудь понадобится, я буду близко.
Затем я ушел, чувствуя, что глаза ее враждебно следили за мной. Эта история произвела на меня гнетущее впечатление. Было ясно, что с бедной девочкой дурно обращались. Я был полон негодования, злобы, наконец, беспокойства. К этому примешивалась досада за то, что случай заставил именно меня подслушать эту сцену. Как раз теперь у меня не было никакого желания сделаться покровителем обиженных барышень и еще меньше быть замешанным в семейные свары незнакомых евреев. Тем не менее я чувствовал себя обязанным наблюдать и ждать и даже ценой своего спокойствия и удобства предотвратить дальнейшее.
На пароходе вообще не прекращались всякие безобразия: пьянство, картежная игра, ночные оргии и постоянные ссоры. Казалось, что мы увозили с собой все людские отбросы Сан-Франциско. Я думаю, что даже тогда, когда нагруженные аргонавтами корабли дюжинами почти ежедневно отплывали на Золотой Север, не было ни одного, на котором так доминировал бы веселящийся элемент. Кают-компания была продушена пачулями и застоявшимся виски. Из кают долетали пронзительные напевы популярных песен, сопровождаемые хлопаньем пробок шампанского. Каскадные танцовщицы, без умолку болтая, вертелись в проходах, танцевали на столах и удерживались от непристойностей только из страха перед своими драчунами.
День превращался в непрерывный ряд пиршеств, а ночь наполнялась зловещими звуками.
Даже среди лучшей части пассажиров уже проявлялась нравственная распущенность. Приличия остались позади вместе с накрахмаленными сорочками и сюртуками; помешавшись на быстром обогащении, люди не старались сохранить благопристойность. Это была ревущая толпа, гордая своей распущенностью и уже зараженная ядом золота. О, как хорошо было на палубе ночью, вдали от этих сатурналий, любоваться на маяки звезд, мерцавшие в небесной глубине, и внимать древнему плачу отверженного моря. Ночи были голубые, серебристые и прозрачные, как хрусталь. Свежий ветер горячил щеки и зажигал глаза.