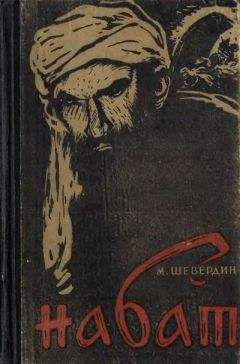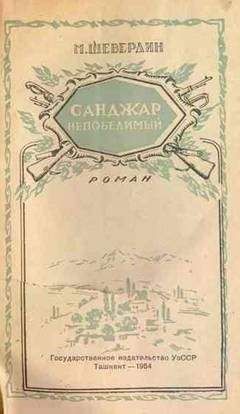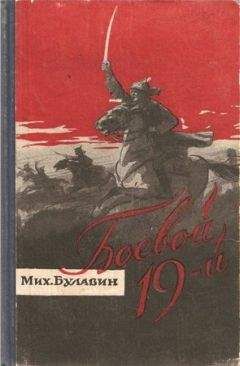Михаил Шевердин - Набат. Книга первая: Паутина
— Значит, кончено?
— Да. Юнус-солдат много стрелял, много в снегу сидел, много на солнце потел, окопы копал. Теперь Юнус-солдат хочет спокойно сидеть вечерком, смотреть, как солнце прячется за большой минарет. Теперь Юнус хочет лежать около хауза. Найду свою Дильаром… кареокую, смуглую… Знаешь, командир, в сказке: беленькая — в шесть персидских туманов ценится, розовенькая — в шестьдесят шесть, а смуглянка — в шестьсот шестьдесят шесть.
И вдруг он запел старую песню на слова поэта Хафиза:
Роза на груди, чаша в руке,
И возлюбленная, отвечающая моим желаниям!
В такой день властелин мира
Только раб.
— Не верю! — воскликнул Пантелеймон Кондратьевич. — Не верю… По глазам вижу, что говоришь одно, а думаешь другое.
Но Юнус тянул свое:
— Сына хочу иметь, вот такого маленького, чтобы ручками бороду дергал, «папа» говорил.
— Посмотри мне в глаза, — вдруг сказал Пантелеймон Кондратьевич. — Эх ты, еще коммунист называешься. Нарвался на какую-то сволочь, контру… пострадал от него и… «хватит с меня», залез по уши в дерьмо и сопит носом. Солнечными закатами любуешься. Посмотри, говорю я.
Он долго-долго смотрел в глаза Юнуса. В них прыгали бешеные огоньки. Да и все та же ехидная ухмылка никак не подходила К смыслу слов о покое, отдыхе.
— Э, — хрипло проговорил Пантелеймон Кондратьевич. — Юнус-солдат, Юнус-большевик не может спасовать. Юнус-солдат не может обидеться на советскую власть. Разве Юнус обидится на Ленина?.
— Ленин, — проговорил, чуть задохнувшись, Юнус. — Ленин, он был со мной, когда меня сволочь Нукрат пытал, мясо мне рвал, душу ломал.
Он сморщился и приложил ладонь к глазам.
— Ленин меня держал. Это он мне силу давал… еще… не могу сказать… не знаю, как сказать. Не умею сказать…
Тряхнув сердито головой, Пантелеймон Кондратьевич проговорил:
— Эх, Юнус-солдат, жизнь сложная штука. Это не гладкая дорога, хитер враг, умен враг, и на то мы большевики, чтобы разбираться, мучиться, бороться и… не сдаваться.
— Не сдаваться, — подхватил Юнус, — правильно. Ленин не сдается, Красная Армия не сдается, Юнус не сдается. Да здравствует Красная Армия… Юнус-красноармеец! Да здравствует Юнус! Не Юнус сидит в грязи. Подлость плавает в грязи, Нукрат сидит в грязи…
Он говорил громко. Он почти кричал:
— Юнус не сдался! Юнус еще будет биться как лев! Мы будем еще биться: стрелять в нукратов.
И он вскочил, потрясая кулаками:
— Нет, рано высунул голову из дерьма Нукрат. Еще крепкая рука держит винтовку. Разрушим стены, мешающие новой жизни. Вечно будут жить Советы. Если теперь прозеваем свое счастье, погибнем бесславно, без имени. Не упускай времени, Юнус! Встань, разгони предателей, бей дубиной, иди пешком, скачи на лошади, рази, набери камней за пазуху… бей предателей. Не упускай времени, Юнус, близок день служения народу…
Речь Юнуса была бессвязной. Он забыл, где он. Он забыл, что перед ним сидит Пантелеймон Кондратьевич. Все пережитое, все сокровенные думы его вырвались наружу, и он кричал…
Старушка Паризот высунулась в дверь с чайником в руке и спряталась.
Юнус замолк. Несколько секунд он озирался. Встретившись взглядом с командиром, он смущенно улыбнулся и сел.
— Не могу… — пробормотал он, — не могу спокойно говорить, извините…
— Я, брат, так и думал, — улыбнулся Пантелеймон Кондратьевич. — Очень хорошо… Есть порох в пороховнице, вижу… был ты молодец… Молодец и есть.
Юнус застеснялся. Он бросился в хижину и притащил поднос с лепешками, чайник, пиалушки.
— Давайте чай пить, — бормотал он.
— Да, а ты не знаешь, что делает Файзи?
При имени Файзи из груди Юнуса вырвался горестный вздох.
— Файзи? — сказал он печально. — Старый друг Файзи? Я не знаю, где он. Никто не знает, помер или куда ушел.
— Мы его нашли.
— Где? Он живой, Файзи! — обрадовался Юнус.
— Живой… его нашел комполка Гриневич. А ты хорошо знал Файзи?
— Он мой брат, больше чем брат. Он — я, я — он. У нас одна душа. Э, командир, братья ссорятся. А Файзи и я… Да что и говорить. Мы тогда работали кожемяками в мастерской бая Хаджи Акбара.
И Юнус рассказал Пантелеймону Кондратьевичу о минувших днях.
Когда в Бухару дошла весть об Октябрьской революции, рабочие, бедняки, ремесленники начали готовить восстание. Во двор Файзи тайком пробирались кожемяки, рабочие железнодорожных мастерских, грузчики с хлопкоочистительного завода, водоносы, батраки из пригородных кишлаков. Здесь у Файзи иногда заседал подпольный комитет большевиков. Сюда к Файзи несли раздобытые с величайшим трудом винтовки, охотничьи ружья, патроны.
— Мы никогда не выходили после собраний на улицу из дома Файзи через ворота, — продолжал Юнус. — В темноте собирались сначала в глубоком дворике, чтобы не услышали соседи, а особенно бай Хаджи Акбар — хозяин.
Стараясь не шуметь, не шептать, заговорщики ползком пробирались через скрытый пролом в ограде на кладбище Туркджанди. Под ногами хрустела сухая колючка, точно хрупкие кости. Слабые духом с трепетом шептали молитвы и заклинания, ожидая, что вот-вот мертвецы появятся из могил. Но мертвецы спали под тяжелыми камнями, и им дела не было до живых.
Еще с 1918 года, со времен колесовского похода, революционеры прятали на кладбище листовки и оружие. Гробницы здесь испокон веков строили из-за невозможной тесноты в несколько ярусов, покойникам даже не рыли могилы, а складывали склепы из кирпича. Всюду образовались ямы, подземные поры, которые служили отличными тайниками. Суеверные эмирские миршабы боялись совать сюда свой нос.
— В конце концов все-таки именно из-за Хаджи Акбара у нас все и провалилось, — рассказывал Юнус. — Людей похватали, казнили. Я успел убежать в Каган и поступить в красные солдаты. А Файзи остался в Бухаре в подполье.
— Хаджи Акбар? Это не тот джадид, который еще недавно по Бухаре ходил?.. Каракулем торгует, Толстый, прыщавый… Владелец караван-сарая?
— Павлиний караван-сарай его.
— А, черт!
Вспомнились Пантелеймону Кондратьевичу его приключения в товарном поезде, но он не стал рассказывать Юнусу, как случайно спас Хаджи Акбара.
— А ты что еще о нем знаешь?.. О Хаджи Акбаре?
Юнус стал припоминать…
Жил в Бухаре некий Самад. Выползал он из-под сырых сводов своего дома, точно из норы. Даже пот на его лице казался каплями воды, выжатыми из трещин между прозеленевшими кирпичами. Да и вся физиономия его прозеленела, и черный кавказский бешмет его имел вид заплесневевший и пропыленный, как будто пролежал десятки лет в сундуке. Синяя грубая чалма из домотканой маты грязным пуком с торчащими махрами в несколько слоев обматывала голову. Длинные, цвета ржавого железа усы тощими жгутиками ниспадали на подбородок, теряясь неожиданно в зеленоватой бороде, словно сорванной с чужого лица и небрежно приклеенной. Самад хихикал, подмигивал панибратски, пытался шутить, но шутки у него получались тяжелые, грубые. Все отлично понимали, чем занимался Самад и его сынок, Хаджи Акбар, на чем он «построил» свое богатство. А те, кто ближе был знаком с Самадом, спешили, когда он появлялся, отсесть в сторонку, лишь бы не прикасаться к его одежде. Ибо именно в одежде заключалась тайна жизни Самада. При появлении его и почтеннейшего отпрыска на людях у многих вырывался возглас отвращения: «О господь всесильный, опять явился кафан-угрысы и его щенок»; награждая коммерсанта прозвищем «кафан-угрысы», то есть «вором саванов», горожане равняли его с наиболее презираемыми, наиболее падшими людишками, которые по ночам пробирались на кладбище и под покровом ночной тьмы раскапывали свежие могилы и грабили мертвецов.