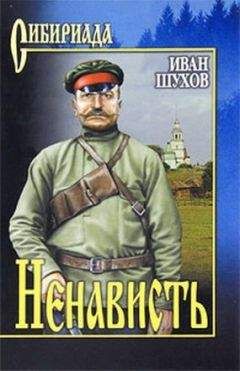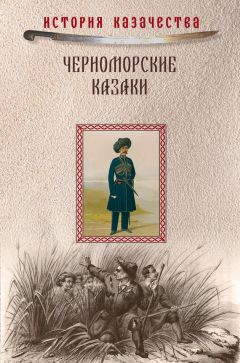Горькая линия - Шухов Иван
— Не говори, служивый…— отозвался Алексей Алексеевич.
— Дорожному человеку гибель.
— Я думаю…
— Главное, места-то тут скрозь дикие. На сотни верст — ни души.
— Вот именно… Нам еще с ямщиком повезло — наткнулись на ваш пикет. Не то и нам пиши пропало.
— Это — как пить дать.
— Не судьба, значит, погибать еще прежде времени.
— Так выходит…
— Да. Не судьба. Вот и еще раз дороги наши с тобой, братец, скрестились…
— Гора с горой, как говорится, не сходится. А люди не горы.
— Это правильно. Люди не горы. А тем более — люди одной судьбы.
— Это как же так, одной судьбы?— не поняв Алек-сел Алексеевича, спросил Федор.
— Да вот так уж случилось, что судьба у нас с тобой, видать, одинакова, — сказал после некоторого раздумья Алексей Алексеевич.
— Ну это ишо вопрос — одинакова ли?— усомнился Федор.
— По-моему, да. Одинакова.
— По-моему, нет.
— Вот как?! В чем же ты видишь разницу?
— Во многом.
— Именно.
— Да что тут говорить лишнее. Я не чета вам. Вы офицер. Вы барин. Вы на правах образования, как говорится. А я что? Рядовой. Нижний чин. Беглый казак. Ни прав, ни видов на свободное жительство…
— Вздор говоришь, братец. И права и виды у нас с тобой сейчас одинаковые.
— В чем же это?
— Во всем.
— Например?
— А хотя бы в том, что обоим нам эти права завоевывать надо.
— Как это так — завоевывать?
— Ну как завоевывают? В бою. С оружием в руках.
— Непонятно. Это каким же, например, манером?
— Самым обыкновенным — в походном строю.
— Непонятные притчи говорите,— сказал Федор, хотя он уже догадывался теперь, к чему клонил речь свою гость. Неясно для Федора было другое — отношение бывшего есаула к тем назревающим событиям в стране, о неизбежности которых говорил в свое время Салкын,— к вооруженной борьбе за власть трудового народа.
Федору, конечно, и в голову не приходило, что беглый армейский офицер Стрепетов был каким-то образом связан с Салкыном.
И Алексей Алексеевич, словно разгадав мысли Федора, ответил ему:
— Притча эта нехитрая, сослуживец. Вот побродяжничали мы с тобой, помыкали горя вволю, а теперь — хватит. Пора нам и о возвращении в родные края подумать.
— Одной думой тут ишо не поможешь,— сказал Федор.
— Правильно. Правильно,— оживленно откликнулся Алексей Алексеевич.— Приходит пора не думать, а действовать.
— Не пойму я, о каком вы действии говорите,— притворно спросил Федор.
— Дело такого рода, станичник,— понизив голос до шепота, заговорил Алексей Алексеевич.— Через месяца два, этой весной придется тебе с твоими однополчанами подаваться отсюда восвояси, поближе к Горькой линии. Пробираться вам надо будет окольными путями и не всей тройкой сразу, а поодиночке, весьма осторожно, с оглядкой. Это — во-первых. Не появляться в станице прежде времени, во-вторых. Постарайтесь для этого найти надежный приют у степных тамыров где-нибудь в прилинейных аулах, это — в-третьих. В-четвертых, будете ждать сигнала к вооруженному выступлению революционно настроенных наших людей, которых найдете в окрестностях Горькой линии, переселенческих хуторах и аулах. А сигнал к выступлению будет вам подан в свое время из Омска.
— Кем же это?— прозвучал чуть слышно тревожный голос Федора.
— Человеком небезызвестным на Горькой линии — Салкыном,— ответил Алексей Алексеевич.
— Что?! Как так Салкыном?!— изумленно воскликнул Федор.
— Вот так, Салкыном. Вы получите от него сигнал через надежных людей, посланных к вам для связи из Омска,— спокойно и твердо проговорил Алексей Алексеевич.
— Ничего не понимаю. Откуда вы знаете Салкына?— спросил все тем же взволнованным голосом Федор.
— Ну это не так уж важно — откуда я знаю его. Не в этом дело, Бушуев.
— Все же. Я любопытствую.
— Связи наши с ним старые,— уклончиво ответил Алексей Алексеевич.
— Что же связало вас?
— Единая вера, друг.
— Во что ж это?
— В бога, разумеется…
— В какого?
— Бог у нас один с вами. Бог борьбы, революции.
— Чудные речи слышу от вас, господин есаул.
— Что ж тут чудного? Повторяю, мы люди одной судьбы. И ты, и я, и Салкын — звенья одной цепи. Это тебе ясно, надеюсь?
— Не совсем, господин есаул,— признался со вздохом Федор.
— Да, Бушуев. Вижу — ты не совсем доверяешь мне. Может быть, на это есть у тебя основания. Может быть. Я понимаю тебя. Ведь ты во мне все еще видишь армейского офицера и барина, а не боевого товарища. Ну что же я могу сказать тебе на это? Скажу одно — придет время, когда ты посмотришь на меня другими глазами.
— Нет, что вы, что вы, Алексей Алексеевич. Дело не в этом. Я просто не чаял услышать от вас этаких слов… Но я верю вам. Верю. Верю,— проговорил засекающимся от волнения голосом Федор.— Просто мне в голову не приходило, что и вы могли быть связаны с нашим Салкыном.
— Представь себе — связан, и крепко,— заговорил горячим шепотом Алексей Алексеевич почти в самое ухо Федора.— О том, где и как я жил нелегально все эти годы, расскажу тебе после, как-нибудь на досуге. А сейчас признаюсь в одном. Я пробираюсь теперь в Омск по вызову Салкына. Еду с чужой подорожной в кармане, по чужим документам, под чужим именем. Это о чем-нибудь тебе говорит?
— Да, теперь я кое-что понимаю,— сказал Федор.
— То-то, голубчик!— многозначительно молвил Алексей Алексеевич, к он, крепко пожав при этом нащупанную в темноте руку Федора, добавил:— Вот так, дорогой мой товарищ. Снова мы с тобой оказались в одном боевом строю. Предстоит нам с тобой нелегкий, но благородный марш. И я верю, что совершим мы с тобой этот марш с честью.
— Ну, в этом вы можете не сомневаться,— сказал Федор, крепко пожав в ответ руку Алексея Алексеевича.
И собеседники замолчали. Прислушиваясь к бушевавшей за окнами предрассветной метели, они долго еще не смыкали глаз, чувствуя при этом такую взаимную близость друг к другу, какую испытывают только неожиданно встретившиеся после долгой разлуки кровные братья.
Глухими волчьими тропами, по ковылям пустынных акмолинских степей, со звериной оглядкой пробирался Федор Бушуев с чужбины в родные края. Шел он только ночами, неуверенно ориентируясь по зыбкому млечному тракту, по звездам, знакомым с детства, призывно и ярко мерцавшим над ним в чужом и высоком небе. Похудевший, давно не бритый, обросший густой окладистой бородой, он и был похож теперь на одного из тех бродяг, о которых сложено много тревожных и вольных песен сибирскими поселенцами. Погода сопутствовала ему в этом нелегком, далеком странствии. В светлые, теплые, безветренные дни он отсыпался, отлеживался в укромных местах среди камышей, на берегу раскиданных в этом просторе многочисленных займищ и озер, питаясь сухим зерном пшеницы переселенческих хуторов и сел. Золотым зерном до отказа набивал он глубокие карманы своих изодранных миткалевых штанов, широкие голенища стоптанных сапог и полы такого же ветхого бешмета, приобретенного по дешевке на ярмарке.
На девятые сутки миновал Федор последние отроги невысоких кокчетавских сопок, обошел стороной обветшалые за эти годы казачьи казармы вблизи Кокчетава, живо напомнившие ему о былом мятеже в полку, и выбрался в родимые степи своего Петропавловского уезда. Впереди лежала светлая, повитая дымкой марев степь с посеребренными ковылями, с мирными дымками разбросанных по увалам аулов, со столбами горячих смерчей среди пустынных и пыльных дорог. И, несмотря на большую физическую усталость, несмотря на потертые, точно налитые оловом ноги, Федор, очутившись в родном просторе, внутренне просветлел, точно почувствовал себя вторично родившимся. Каждый куст таволожника, каждый стебель полыни, каждый степной курган с молчаливой птицей на нем — все напоминало о близкой родине, и он не мог без душевного волнения смотреть на эти наизусть заученные с детства просторы, на это умиротворяющее синее спокойное небо над степью и на зеркальные плесы светлых и чистых озер.