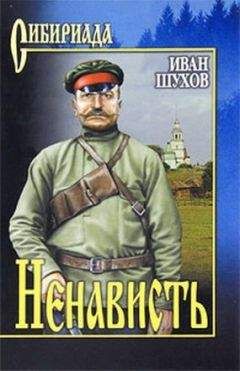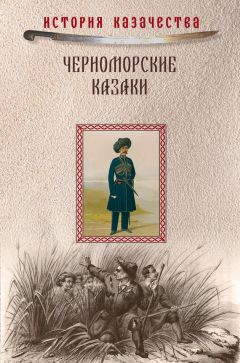Горькая линия - Шухов Иван
Так можно было сказать, казалось Федору, только об одной девушке в мире — о Даше. И никогда прежде за годы разлуки не возникал перед Федором такой полный тепла и света, живой, почти физически осязаемый образ Даши, какой возник перед ним, освещенный мягким светом этого стихотворения.
В ночь под Новый год разыгралась такая метель, что было жутко от сатанинского свиста вьюги, даже сидя в жарко натопленной, опрятной и тихой хибарке пикета. Долго не вздувая в этот вечер огня, Федор сумерничал, прислушиваясь к набатному гулу пурги, разбушевавшейся в степном просторе.
Примостившись возле догорающей печки, Федор не сводил прищуренных глаз с большого вороха потрескивающих углей, подернувшихся дымкой голубоватого пепла.
Домовничал Федор на пикете один. Куандык еще утром отправился с каким-то седоком на паре почтовых в Каркаралы, и Федор подумывал теперь о том, как бы не сбился с дороги бывалый ямщик. Ведь даже и днем при такой снежной сумятице в поле не видно ни зги, а уж о ночи и говорить нечего. Федор знал, что в такую пору не помогут дорожному человеку в пути ни камышные вешки, расставленные по тракту, ни привычные ко всему ямщицкие кони, чутью и выносливости которых доверяются ямщики, потерявшие дорогу.
Вспомнив про новогоднюю ночь, Федор встал, осветил лучинкой тикающие в простенке ходики. Часы показывали без малого одиннадцать вечера. Пора было подумать о самоваре. Как-никак, а отметить новогоднюю ночь чем-то все ж было надо. Вздув наконец огонек в семилинейной лампешке с залатанным бумагой стеклом, Федор поставил самовар. Угли были горячие, тяга в трубе — лучше некуда, и древний, ярко начищенный по случаю новогоднего праздника, щедро унизанный медалями тулячок бойко и весело загудел, разгораясь, подпевая на все лады безумствующей за окошками полуночной вьюге. Федор накрыл в заезжей горнице столик, выставив давно приберегаемую бутылку первосортного самогона, привезенного в подарок ему Куандыком из Каркаралинска, и топтался теперь, потирая руки, в ожидании, пока вскипит самовар и доварится в сунутом в печь чугунке картошка в мундире. Он был доволен. Ужин предстоял на славу. А одиночество на сей раз нисколько не тяготило его. Наоборот, было приятно провести такую ночь наедине со своими сокровенными думами о далекой родной стороне, вспомнить про милые сердцу края, повздыхать о Даше…
Подбросив в печку сухих березовых дров, Федор насторожился, прислушавшись к странным звукам и шорохам, возникшим за дверью избы. В сенках кто-то шара-шился, нащупывая дверную скобу. Затем в двери показалась закутанная в собачью доху, похожая на снежную глыбу фигура.
— Ух, слава богу!— глухо проговорил незнакомец и, шумно вздохнув, принялся отряхиваться от снега.
— Ни зги?— спросил Федор, без особого любопытства поглядывая на припоздалого новогоднего гостя.
— Сущий ад, братец. Сущий ад…— пробормотал все тем же глуховатым голосом путник, тщетно стараясь развязать концы каштанового офицерского башлыка.
— Скажи, как ишо бог принес — добрались в такую оказию до пикета!— проговорил с непритворным удивлением Федор.
— Сам диву даюсь, батенька.
— Ямщик, видать, со смекалкой?
— Ямщик — да. Не из робких. Тертый калач… Но спасение еще не в одном ямщике. Кони у него золотые. Таким лошадям цены нет. Подумать только, ни разу в такой кутерьме с дороги не сбились! А?! Ведь ямщик-то ими и править забыл. Как замело, закрутило — божьего свету не видно, он — вожжи на облучок, а сам — ко мне в кузов, и трогай, куда святая вынесет…— говорил незнакомец, продолжая возню со своим башлыком,— он никак не мог развязать концов, стянутых узлом на затылке.
— Правильный ямщик. При такой заварухе конем лучше не руководствовать. Он сам свою дорогу найдет. А твое дело — лежать на дне кошевы да помалкивать,— сказал Федор, суетясь возле закипавшего самовара.
— Легко сказать — лежать. Не лежится, браток.
— Понятно дело — не лежится. Кабы лежалось, не гибло бы столько народу в бураны в этих степях. Нет, брат, в такую пору с конем не хитри. Он этого не любит,— продолжал Федор рассуждать как бы сам с собою.
Между тем путник, сорвав наконец с головы башлык вместе с черной мохнатой папахой, свалил с плеч и доху, оставшись в потертой темно-синей шинели с блестящими пуговицами, отороченной по бортам и у обшлагов голубым кантом. Федор, мельком взглянув на незнакомца, определил, что перед ним был не то какой-то почтовый чиновник, не то учитель — таким, по крайней мере, выглядел он благодаря ладно сидевшей на его плотной и рослой фигуре ведомственной форме.
— Ну-с, а теперь — здравствуйте!— прозвучал более оживленный, повеселевший голос путника.
— Милости просим. Проходите. Пожалуйте вот туда. Там и теплей и чуток почище будет,— сказал Федор, указывая на дверцы неярко освещенной горницы.
— Ага. Очень приятно. Благодарствую,— проговорил незнакомец и, поспешно приняв из рук ввалившегося в избу заиндевевшего ямщика небольшой кожаный дорожный баул и какой-то странный чемодан, напоминавший формой гитару, вошел в горницу.
— Ба! Да здесь, вижу, пиром пахнет!— прозвучал из горницы голос путника.
— А как же вы думали! Новый год без этого никак не обходится,— откликнулся Федор из кухни.
— С корабля — на бал. Чудесно! Чудесно!.. Ну что ж, попируем. У меня тоже со шкалик медицинского спирта найдется.
— Нет уж, извиняйте. Потчуйтесь моим первачком. Не самогонка — огонь. Сто пять градусов с плюсом!— сказал Федор, подмигнув примостившемуся у порога ямщику, обиравшему со своей серебряной бороды хрустально-ледяные сосульки.
— Да. Да. Чудесно. Чудесно,— звучал из горницы все тот же возбужденный голос гостя. Расхаживая по небольшой комнатке, он, близоруко щурясь, приглядывался к журнальным картинкам, украшающим стены, и продолжал рассуждать вслух сам с собою:— Лермонтов? Превосходная репродукция. Вот не ожидал где встретиться с вами, юнкер! Да-а. Странно. Странно, Мишель…— проговорил он со вздохом вполголоса и, помолчав, добавил:— Все странно. И все чудесно, в конце концов. И лучше этакой новогодней ночи не выдумаешь…
Умолкнув, гость присел к столу. Подперев слегка засеребрившиеся виски худыми руками, он пристально засмотрелся на портрет Лермонтова и не сразу заметил появившегося с самоваром в руках хозяина пикета.
А Федор, едва переступив порог горенки, замер с самоваром в руках, не в силах двинуться с места. Глядя в упор на сидящего к нему вполоборота гостя, он испытывал такое чувство, словно земляной пол поплыл из-под его ног.
— Вот это совсем по-русски. Совсем хорошо!— воскликнул гость, широко улыбаясь.
И Федор, сделав усилие над собой, подался наконец к столу, поставив кипящий самовар перед гостем.
— Без пяти двенадцать, У вас куранты, смотрю, отстают. Пора — за бокалы. Пора. Пора,— сказал гость, сверяя свои карманные часы с золотым брелоком с узорными стрелками ходиков.
Федор медленно опустился на чурбан, служивший табуретом, и, не глядя уже больше на гостя, разлил подрагивающей рукой из бутылки по чайным чашкам первач, похожий на голубоватое спиртовое пламя.
— Ну что ж, поднимем первую за знакомство?— проговорил гость, приподняв свою чашку.
— Нет. Нет,— поспешно возразил Федор, решившись наконец взглянуть гостю в глаза.— Нет, первую надо нам выпить с вами за Новый год, за новое наше счастье, ваше высокоблагородие!— твердо произнес Федор.
Слегка побледневшее при этом лицо гостя вдруг обрело суровое, строгое выражение. Худая белая рука его с поднятой чашкой, до краев наполненной огненной влагой, начала было медленно опускаться. Но Федор, звучно чокнувшись своей чашкой о чашку гостя, сказал:
— Ровно двенадцать. Опаздывать не годится. Выпьем. А наговориться ишо успеем. Ночь впереди.
И они, снова чокнувшись и не спуская друг с друга глаз, залпом выпили.
Часы показывали ровно двенадцать.
За окошками хижины бушевала метель, и было похоже, что где-то в честь нового года били в колокола.
О многом было переговорено в эту новогоднюю ночь между бывшим командиром 4-го Сибирского линейного полка есаулом Алексеем Алексеевичем Стрепетовым и рядовым казаком его мятежного полка Федором Бушуевым. Вволю наговорившись за ночь, оба испытывали теперь такое чувство взаимного уважения и тяготения друг к другу, какое возникает только между людьми одной судьбы, познавшими цену опальной скитальческой жизни и случайно встретившимися в чужом краю.