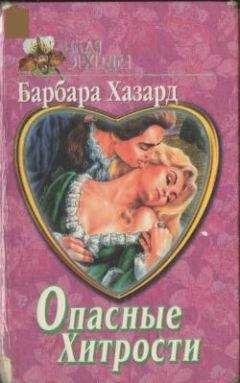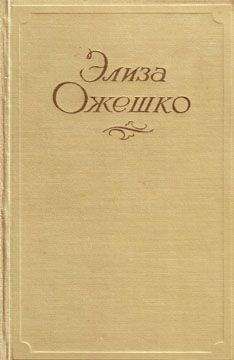Александр Косарев - Глаз Лобенгулы
Местный Сусанин довольно уверенно направлял нашу болезненно стонущую колымагу по пустынным дорогам, но после трех ночи начал клевать носом и, разумеется, пропустил нужный поворот. В результате, полностью опустошив бензобак, мы застыли на безвестном перекрестке двух дорог. В каком-то смысле в этом был даже свой плюс: никто теперь не мог проехать мимо, не поделившись с нами хотя бы толикой бензина. Однако надежды мои не оправдались. Первым к перекрестку вырулил громадный лесовоз с дизельным двигателем. Водитель, с ходу обложивший меня витиеватым мозамбикским матом, сдвинул своим широченным бампером наш автобус в сторону и исчез во мгле.
А под утро нас разбудил оглушительный сигнал сирены. Как потом выяснилось, мы мешали проезду военной колонны из полутора десятков грузовиков, и командир соединения, заподозрив в нашей развалине возможную засаду и остановив свои машины на достаточном удалении, выслал вперед разведку.
Пока мы протирали глаза, наш автобус окружил уже целый взвод решительно настроенных солдат. Но когда они увидели окровавленные бинты и заляпанную грязью одежду пассажиров, оружие сразу опустили. Более того, приняли в нашей судьбе посильное участие: сопровождавший колонну капитан толково указал, какой дорогой нам следует ехать, а солдаты поделились двумя канистрами бензина. Винтовки и ружья бандитов они, правда, конфисковали, но зато поделились перевязочными материалами, водой, шприцами и противолихорадочной сывороткой.
На радостях мы снова развернули дорожный лазарет, и на пару с драчливой дамой я стал делать перевязки и колоть всем подряд спасительный препарат. В какой-то момент поймал себя вдруг на мысли, что полностью адаптировался к чужой стране: «Мог ли я и предположить в Москве, что попаду здесь в такой переплет? И, вроде как, не сдрейфил, справляюсь потихоньку…»
— Чему улыбаешься? — поинтересовался дядя, с трудом разлепив спекшиеся губы.
— Да просто припомнил, что основоположник марксизма писал когда-то, что бытие якобы определяет сознание. И вот я, — указал я на себя зажатым в руке шприцем, — яркое, оказывается, тому подтверждение. Еще какой-то месяц назад бодренько шустрил себе по столице и думать не думал о жизни в других странах, а вот оказался здесь, и ничего — быстренько приспособился…
— Советский человек, Саня, он самый из всех приспособленный, — одобрительно хмыкнул дядя. — Я в свое время немало походил по чужим странам… Там ведь всё как: если ты клерк, то только бумажки пишешь, если грузчик — только мешки таскаешь. А наш человек, возьми любого, всегда и швец, и жнец, и на дуде игрец! Потому-то наши люди везде и приживаются, потому и успехов достигают в любом деле. У нас ведь в головах преград нет: надо лечить — будем лечить, потребуется завтра в тундре завод построить — даже не спросим, зачем он там нужен… Надо — значит надо! Нас ведь так с детства приучили, — вздохнул Владимир Васильевич и сменил тему: — Ну как там, Сань, мои дырки поживают? Сильно воспалились?
— Нормально всё, — бодро отрапортовал я, накладывая смоченную спиртом повязку на изрядно покрасневшую грудь старпома, — до свадьбы заживет.
— А до госпиталя далеко еще?
— Насколько я понял вояк, осталось меньше ста километров. Если обойдемся без приключений, то часа через три доскребемся…
— Дай-то бы бог, — устало опустил дядя голову на свернутую рулоном куртку.
— Кстати, могу предложить глоточек самогона…
— Да ну? — вмиг оживился Владимир Васильевич. — А чего ж молчал? Наливай!
— Рад бы, да не во что. Придется по-русски, из горла, — и я придал дяде сидячее положение.
— Ух-х, крепка, зар-раза! — крякнул старпом, сделав два солидных глотка.
— Бр-р-р, — дружно вздрогнули все свидетели этой варварской сцены.
— Спокойно, друзья, — объявил я им, — это исключительно для профилактики кишечных болезней.
Стоило дяде перевести мои слова, как ко мне сразу же потянулись всевозможные емкости: от бумажных кулечков до бритвенных стаканчиков. Пришлось всем страждущим налить по глоточку, обделив лишь себя: увы, пора было садиться за руль.
Пожевав стручок едкого красного перца (самое действенное средство от сонливости!), я завел двигатель, и наше путешествие продолжилось.
У деревеньки Джимо мы распрощались с незадачливым проводником, а еще через два часа дорожных мучений показалась и деревня Мангуача.
— Госпиталь, госпиталь! — взволнованно заголосили попутчики.
Но я и без их подсказок видел уже и колышущийся на флагштоке голубой флаг, и ряд новеньких палаток, помеченных красными крестами, и белый вертолет фирмы Сикорского.
Стоило мне выключить двигатель и открыть дверцу, как тут же подбежали парни в зеленых халатах и начали деятельно и одновременно бережно принимать пострадавших. Вместе с ними явился офицер с непонятными знаками отличия, который решил без промедления устроить мне форменный допрос. Я же, представившись русским ученым, ограничился лишь сообщением, что доставил транспорт с ранеными из Массангены, после чего, заявив, что очень устал и тоже ранен, от беседы отказался. Офицер нехотя ретировался, на прощание строго пообещав поговорить со мной позже.
Облегченно вздохнув, я собрал наши пожитки и принялся искать место, где их можно было бы оставить на хранение. Но, не дойдя до ближайшей палатки двух десятков метров, почувствовал вдруг сильное головокружение и, чтобы не упасть, спешно опустился на землю. Мимо сновали какие-то тени, мир вокруг начал раскачиваться из стороны в сторону, в глазах всё поплыло…
В сознание я пришел только вечером. Сначала вернулись слух и осязание, потом ощутил, что лежу в кровати. Открыв глаза, понял, что нахожусь в общей палате, рассчитанной, самое малое, человек на сорок, и что привязан к койке брезентовыми лямками, а к левой руке подсоединена вдобавок еще и капельница.
— Эй, кто-нибудь! — позвал я на ставшем почти уже родным английском.
Зашуршали легкие шаги, и моему взору предстала юная золотоволосая дива в белоснежном передничке и аккуратно венчающей голову пилотке. Правильное бледное лицо отражало полную бесстрастность, и я почувствовал себя подопытной мышью в руках матерого вивисектора.
— Лейтенант медицинской службы Мария Анжу, — сухо представилась дива. — Вас что-то беспокоит?
— Меня зовут Алекс, — промямлил я, ощутив странную неповоротливость языка. — Почему меня язык не слушается?
— Вам сделали операцию, — мельком заглянула она в свой блокнотик, — и действие анестезии пока еще сохраняется. Не волнуйтесь, это ощущение скоро пройдет…
— Операцию? Зачем? — я был потрясен.