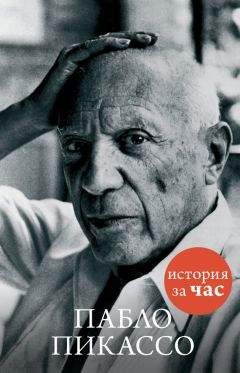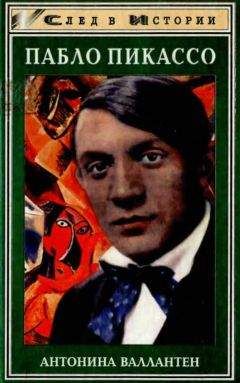Вадим Шверубович - О людях, о театре и о себе
После Февральской революции многие пытались обратить свои средства в иностранную валюту или вложить их в какие-нибудь иностранные предприятия. И. Г. Коган этого не сделал и потерял после Октября все свое очень значительное состояние. За границу он вывез только деловую репутацию и глубокое знание финансовых операций. Стоило ему вступить в банковское дело, как в этот банк потекли со всех сторон вклады. Я слышал, что имевшие с ним дело представители наших торгующих организаций и работники нашего торгпредства неоднократно советовали ему вернуться в Советскую Россию, гарантируя ему интересную работу. Я думаю, что, если бы он остался в России или возвратился бы туда, он нашел бы достойную работу в финансовых органах.
Совсем по-другому обстояло дело с его женой, Марьей Борисовной. Представить себе ее в советских условиях было совершенно невозможно. Все, что ценой огромного, напряженного, непрестанного труда зарабатывал муж, с легкостью и широтой, совсем несвойственными буржуазке, а скорее, сближавшими ее с «отживающим дворянством» или с богемой, она растрачивала на широкую и веселую жизнь, с наслаждением делала дорогие подарки, угощала великолепными обедами и ужинами, обожала встречать приезжающих роскошными цветами и провожать уезжающих конфетами и фруктами… О ее московских приемах я знаю только понаслышке, а в Берлине у нее был «бесплатный трактир» не хуже комиссаровского в дореволюционной Москве. Начиная с двух часов дня в их квартире в Вильмерсдорфе (буржуазная часть Берлина) всегда кто-то завтракал, кто-то говорил по телефону, кто-то кого-то принимал. Обычно ей звонили, чтобы узнать, дома ли она, и потом приходили перекусить, отдохнуть, поболтать, встретиться с кем-то (кому назначили свидание), а иногда приходили и без звонка. Многие у нее обедали и ужинали. Портные и портнихи по ее записке шили людям в кредит, в пансионах сдавали комнаты, не требуя оплаты вперед…
Почему я пишу об этом семействе, об этом доме? Потому что в жизни актеров такие семьи играли всегда большую роль. Как бы широки и тароваты ни были некоторые представители богемы, но они редко испытывают такую любовь, такой интерес к собственной своей среде, чтобы терпеть во имя ее неудобства и даже приносить жертвы, на которые способны только люди, соприкасающиеся с искусством, с творчеством именно этим способом, то есть кормя и ублажая его деятелей. Такая бескорыстная, готовая на все любовь — это их вклад в культуру. Они были «службой тыла», «интендантством» того воинства, которое двигает вперед культуру. Они были той почвой, из которой когда-то выросли Мамонтовы, Морозовы, Третьяковы, Щукины, Дягилевы… Начиналось с увлечения артистами, художниками, а потом переходило в увлечение их творчеством, их произведениями.
У Коганов в Берлине был открытый дом для людей искусства и до приезда группы Художественного театра, ну а уж с ее появлением личная жизнь семьи растворилась в каком-то безумии гостеприимства.
Как-то я слышал, как глава дома говорил «мамзели» (кухарке): «Господин доктор Бертенсон на несколько дней уехал, вы можете в эти дни готовить баранину, я ее очень люблю». Дело в том, что кухарка, зная, что Бертенсон не любит запаха баранины, не смела ее готовить — «а вдруг господин доктор придет?» Настолько весь дом был подчинен стремлению угодить гостям!
Ко времени приезда группы Художественного театра в Берлине было несколько русских театральных предприятий, но они были как-то нестабильны: затевались с большим шумом и рекламой, открывались тоже с шумом и потом почти беззвучно распадались. Более или менее крепко держался театр «Синяя птица» Южного и Аренцвари. Какое-то время у них работал большой и тонкий артист Виктор Хенкин. На моих глазах родился и умер театр О. В. Гзовской и В. Г. Гайдарова. Помню их спектакль «Хозяйка гостиницы» Гольдони. Гзовская играла Мирандолину, Гайдаров — Кавалера, Булатов — графа, Вибер — маркиза, Асланов — Фабрицио. Трудно сейчас восстановить в памяти хоть что-нибудь, помню только, что Ольга Владимировна была прелестна, обаятельна, изящна, только гораздо более кокетлива, чем в Москве. Кокетлива не только со своими поклонниками по пьесе, но и с публикой. Не думаю, чтобы это могло понравиться ее московским учителям.
Гайдаров играл абсолютную копию Константина Сергеевича, в этом была даже своего рода талантливость. Вспоминая, как Бакшеев копировал Константина Сергеевича в «Мудреце», все признавали, что это было только попыткой, бледной копией; у Гайдарова же слово за словом, жест за жестом, каждая интонация, каждое движение — все было точным повторением того же у Константина Сергеевича. А Асланова — Фабрицио было до слез жалко: умный, пожилой, неловкий, со скованными движениями интеллигента, стесняющегося своей роли, он был до невероятия не на месте в роли страстного итальянца, бешеного в любви полумальчика-полуюноши. Никаким гримом нельзя было скрыть старые, грустные, умные армянские глаза на «загорелом» и «румяном» «юном» лице. Вибера не помню, Булатова помню больше — он мне казался персонажем из рассказов Василия Ивановича о провинциальных «благородных отцах».
«Саломею» Уайльда в их же театре совсем почти не помню; смутно вспоминаю какие-то декадентские декорации и не соответствовавший им танец Ольги Владимировны, очень какой-то старомодный.
Гайдаров был очень красив с взлохмаченными рыжими волосами и с загримированным, с нарисованными ребрами, телом. Ирода также «крепко» играл Булатов.
Посмотрев оба эти спектакля, я не только успокоился за свой театр, но и преисполнился гордостью за него. Я приехал несколько раньше всей группы, да и спектакли начались у нас в Берлине через две почти недели после приезда, и играли мы не каждый день, так что времени побывать в театрах у меня было достаточно.
Помню очень интересный спектакль в Гроссшаушпиль-хаузе (бывший цирк Буш) у Рейнгардта — «Разбойники» Шиллера. Все «лесные» сцены шли на арене — огромном опускающемся и поднимающемся просцениуме, а интерьерные сцены — на самой сцене. Декорации пейзажа были абсолютно натуралистическими — скалы из папье-маше были обработаны со скучной точностью муляжа, кусты, мох, трава, песок дорожек — все было «как настоящее». За окнами павильонов то плавно двигались по голубому небу легкие белые барашки облаков, то по черному небу клубились мрачные тучи, между которыми сверкали звезды. Все это было потрясающе настоящим, умилительно взаправдашним; впервые виденный мною «волькен-аппарат» (сложный оптико-световой прибор для воспроизведения движущихся облаков) создавал полную иллюзию неба и безграничной дали; все… кроме актеров. Актеры выли, рычали, демонически хохотали — поверить в истинность их чувств и их поведения нормальный человек не мог. После высококультурной, утонченной, изысканно-сдержанной манеры игры актеров венского «Бургтеатра» это казалось глухой провинцией. И это театр знаменитого Рейнгардта? Просто не верилось…
Видел я гетевского «Фауста» в «Резиденц-театре», с прекрасным актером Эмилем Яннингсом в роли Мефистофеля. Тоже не понравилось. Раздражал отвратительный натуралистический гротеск ведьм на Брокене — их играли мужчины с вылезающими из одежд вислыми резиновыми грудями. И та же провинциальная грубая крикливость декламации.
Замечательным по художественной технике был спектакль «Необыкновенные приключения капельмейстера Крейслера» — инсценировка рассказов Э.‑Т.‑А. Гофмана. Поставил его один из двух директоров Театра на Кениггрецерской улице — Мейнхардт. Этот театр принадлежал фирме «Мейнхардт и Бернауэр», но второго мы никогда не видели, он ни в какие дела не вмешивался, кроме, очевидно, чисто финансовых. Нам, группе, пришлось иметь дело только с Мейнхардтом. Это было довольно-таки тяжело. Когда начинали с ним переговоры, то надеялись, что работать с владельцем театра, который кроме этого, даже главным образом является режиссером-художником, будет легко и приятно. Оказалось все наоборот. Ни один антрепренер, чиновник-директор, владелец театра не проявлял себя таким кулаком, как этот. В то же время нельзя было не признать, что его постановка «Крейслера» была удивительно удачной.
Я не помню, да и вообще не имею права судить о том, как пели, какая была музыка. Плохо, вернее, вообще не помню, как и что они играли, но технические и световые постановочные эффекты помню. Помню, как колодец в две‑три секунды превращался в огромное развесистое дерево, настолько натуральное и прочное, что в его ветвях мог сидеть человек; как из ложи театра в луче лунного света на сцену спускался сам Крейслер. Мгновенные превращения, молниеносные смены мест действия — все это под музыку, без единой задержки. Все было отработано, отрепетировано как цирковой номер, вернее даже как работа идеально вымуштрованного артиллерийского расчета.
Что-то, при всем восхищении точной и тонкой художественной работой, было в этом для нас неприятное — уж очень это было по-прусски. В этом театре предстояло играть и нам. Но мне хочется до рассказа о наших гастролях еще немного повспоминать о Берлине тех лет.