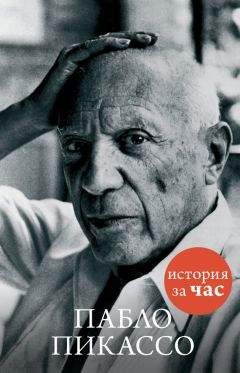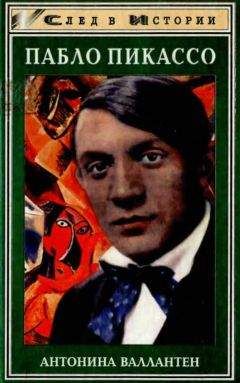Вадим Шверубович - О людях, о театре и о себе
В других наших спектаклях возможно было положение, при котором спектакль, или роль, или место в роли могли быть приняты публикой, но не одобрены общественным мнением группы; и наоборот, группа могла очень высоко оценить то, что не принималось вовне. Критерием было соответствие «системе», вкусам, стилю, традициям Художественного театра. Проверяли на приемлемость «там», на то, как то или иное прозвучало бы на сцене в Камергерском, что бы сказали Константин Сергеевич и Владимир Иванович. И это было нетрудно, так как все, что до сих пор делалось, было реконструкцией по старым чертежам, критерием была верность им, иногда изменение, исправление этих чертежей, но всегда только их.
Здесь же такого критерия не было. И вообще «чертежа» не было. Я боюсь и не люблю пользоваться мхатовской терминологией, но здесь рискну: в спектакле не было ни «сверхзадачи», ни «сверхсверхзадачи». Не было ни решения, что хотят сказать в этом спектакле, ни во имя чего ставится этот спектакль, что им хотят сделать. Как, впрочем, не было ясно (да и мало кому интересно), зачем вообще существует театр (в частности группа), чего он хочет, зачем ставит те или иные пьесы, так или иначе распределяя роли.
От этого спектакль получился без четкой идеи, он ничему не учил — ни восприятию мира, ни этике, ни эстетике. То есть, вернее, не истолковывал того, что было в пьесе, ничего не подчеркивал, не писал курсивом, не ставил ударений. Это было культурное, корректное, бережное донесение Шекспира. Очень корректное, очень культурное, но сухое, бескровное. Возможно, что я ошибаюсь, так как больше воспринимал спектакль с точки зрения его внешнего оформления (буквально «с точки зрения»).
Оформление было очень остроумным в смысле технологии ведения многокартинного спектакля в гастрольной поездке, без своего постоянного технического персонала. Больше того, оно создавало интересные мизансценировочные возможности, было интересным в смысле «режиссуры планшета», его цветные детали (задники, панно, драпировки, гобелены) и по стилю и по краскам гармонировали с костюмами, аксессуарами, они соответствовали тону, характеру, атмосфере, настроению происходивших на их фоне событий. Самый строгий, придирчивый судья не нашел бы в них никаких погрешностей против изысканнейшего вкуса.
Но в оформлении не было таланта, не было лица художника, вообще не было художника. Это было решение оформления, созданное идеальным заведующим постановочной частью, но не художником. И это было не только внешним, но и внутренним образом всего спектакля в целом. Он был на вполне достойном Европы уровне. Он мог бы быть спектаклем любого хорошего театра любой столицы мира, но он не мог бы быть событием, которое оставляет след в истории мирового театра, вроде «Русских сезонов» Дягилева. Это не значит, что Болеславский не начинал работы с изложения своего замысла, но то, что он нес коллективу, было ниже уровня коллектива; во всяком случае, для Василия Ивановича это прозвучало наивно и мелко.
Вообще в этой работе было какое-то трагическое несоответствие масштабов: с одной стороны — Шекспир, Гамлет, Качалов, с другой — Болеславский и Гремиславский. Ричард был бы, вероятно, неоценимым сопостановщиком при большом мастере, он сумел бы блестяще организовать не только спектакли, но и работу по их созданию. Он снял бы с этого мастера всю заботу и выполнил бы за него работу, чтобы сберечь его силы для мысли и творчества.
Иван Яковлевич, работая в качестве заведующего художественно-постановочной частью и художника-исполнителя, создал бы идеальные условия работы большому художнику (как он это и делал для Рабиновича, Головина, Дмитриева и многих других), организовал бы выполнение оформления, монтировку и проведение спектакля. И тот и другой это блистательно выполнили и тут, но то, что они выполняли и проводили, не было таким, каким должно было быть.
Я был на первых беседах Болеславского со всей труппой, но ушел разочарованный: не было в его концепции ни одной яркой, глубокой, новой мысли.
Помнится, что в основе всей трагедии он полагал то, что «распалась связь времен» и Гамлет «связать ее рожден». Случайно (мне кажется) лучшим местом спектакля, лучшим местом роли Василия Ивановича был именно конец сцены с Духом.
Вспоминая исполнение Василия Ивановича, я всегда думаю об одном. Мне очень нравилась (когда мы играли «Гамлета» за границей) сцена в спальне матери; казалось, что Гамлет — Василий Иванович действительно видит дух отца, что он и убедителен, и грозен, и нежен с матерью.
И вот летом 1922 года Василий Иванович и Ольга Леонардовна сыграли эту сцену в каком-то сборном спектакле-концерте на сцене МХАТ. И мне было так неловко, так стыдно… Я вдруг почувствовал ту пустоту, безмыслие, бестемпераментную декламацию, которыми Василий Иванович мучился почти весь период выпуска спектакля и часто после. Надо было этой сцене прозвучать в стенах МХАТ, чтобы зазвенела ее фальшь. Уверен, что так же, а может быть, и хуже прозвучал бы весь спектакль.
Но много в нем было и очень хорошего. Кроме «Распалась связь времен» — монолога, который всегда удавался, часто удивительно хорошо шла сцена с Офелией, сцена с Полонием («Слова, слова, слова»), «С недавних пор утратил я всю свою веселость», наставление актерам. Редко Василий Иванович (да и Нина Николаевна тоже) бывал доволен монологом «Быть или не быть». Ни разу не был доволен «Мышеловкой», и очень, очень редко бывал доволен «Кладбищем». А все начало, встреча с Горацио и «Распалась…» было, очевидно, действительно здорово. Я очень поверил в это после того спектакля, который в Праге смотрел Александр Моисси. Он просил меня записать ему латинским шрифтом эти две строки, выучил их и с видимым наслаждением повторял, не копируя, но в то же время очень похоже на Василия Ивановича.
Моисси был (по его словам) совершенно покорен и звучанием голоса и пластикой Василия Ивановича в «Гамлете», принимал также очень и Тарасову, про которую сказал только, что она с самого начала немного сумасшедшая, спросил Нину Николаевну, что это за неожиданное толкование.
Ольга Леонардовна Моисси очень нравилась вообще, но в этой роли он ее не принимал. Когда кто-то из нас (может быть, даже и я) рассказал ему, что в какой-то рецензии о крэговской постановке про Массалитинова и про нее написали, что они похожи на самовар и чайник, он очень смеялся и сказал, что и без золотого облачения этого спектакля они это сходство сохранили: оба они только аксессуары, а не персонажи.
Мне кажется, что Моисси к спектаклю в целом относился не очень серьезно, рассматривал его только как антураж Василия Ивановича, как его гастрольный спектакль. И для этого считал его, вероятно, достаточно хорошим, ведь ему приходилось в этот период своей деятельности играть того же «Гамлета», и «Ромео», и «Живой труп», и «Привидения» с совсем случайными, кое-как слаженными ансамблями. По сравнению с такими наш казался ему, разумеется, академическим. Однако, когда через несколько месяцев ему предложили сыграть в Копенгагене «Гамлета» с антуражем из нашей группы, он не захотел — сказал, что совсем не совпадает ритм речи и действия. Другие же спектакли группы он оценил чрезвычайно высоко. Особенно чеховские пьесы. Будучи в Праге, он пересмотрел у нас все, а что мог — по два раза.
После какого-то нашего спектакля поклонник нашего театра, пражский банкир Розенкранц, пригласил ряд наших актеров и Моисси к себе на ужин. Так как я сидел с Моисси на спектакле и ходил с ним к нашим актерам в уборные, был приглашен, главным образом в качестве переводчика, и я. После изысканного ужина большая часть компании постепенно разошлась, остались до позднего утра Моисси, Василий Иванович, измученный, никак не рассчитывавший на таких «каменных гостей» хозяин и я. Это была одна из самых мучительно трудных по напряжению и, пожалуй, самая интересная ночь в моей жизни. Оба они — Василий Иванович и Моисси — были предельно заинтересованы друг другом; они стремились понять друг друга до самых глубин, до самых сокровенных извилин творческого метода. Ох, нет, не метода — это слишком холодное, поверхностное в данном случае слово, — до взлетов и провалов, до бездн и озарений самого творчества. Стремились постигнуть в сравнении с собой, со своими путями и мерами и, соизмеряя, вскрывая себя, обнажали себя до последних тайных покровов…
Я с двенадцати лет дружил с отцом, но никогда он так не открывал мне себя, как открывал в эту ночь через меня Сандро. Часов пять или шесть продолжалась эта «исповедь горячего сердца». Хозяин моргал воспаленными глазами, тайком смотрел на часы и открывал все новые и новые бутылки с сельтерской и вином, и вновь и вновь зажигал спиртовую горелку под кофейником, подливая туда воды и подсыпая кофе… Разошлась и позасыпала вся прислуга, все члены семьи, а они все говорили и говорили, смотрели друг другу в глаза, иногда целовались, иногда жали друг другу руки… Потом кричали мне в ухо те или иные казавшиеся им особенно убедительными слова, сравнения, эпитеты, примеры, пришедшие им в голову. Потом просили у хозяина, которого называли и Розенкранц, и Гильденстерн, и Розенштерн, и Гильденкранц, еще кофе и «шприц» (сельтерская с вином). Он ни на какие искажения фамилии не обижался и, видимо, только молил бога избавить его от этих разговорившихся гениев и проклинал идею пригласить их к себе.