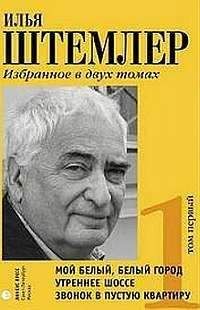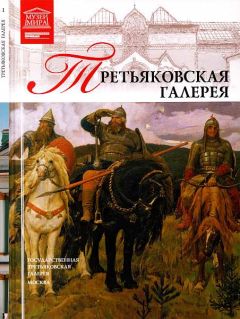Марина Райкина - Москва закулисная-2 : Тайны. Мистика. Любовь
— Честь и хвала моему отцу, который бы мне оторвал башку, если бы я так думал. В школе я не был отличником, скорее, хорошистом — тройка, четверка, опять тройка, а то и двойка, потом снова четверка… Когда больше четверок значит, хорошист.
Последнее место папиной работы — Театр Сац. К тому времени он уже болел. Последнее, что он сделал, — это Синюю птицу, символ, затащил на крышу театра. Я был на открытии. К тому времени уже курил. Первая пачка — «Данхилл». И гениальный случай, когда ко мне официант подошел: «Дай сигареточку». Я так пижонски пачку открыл (показывает), а он: «Я у тебя три возьму, чтоб не светил». То есть поставил на место в одночасье. Такие вот уроки. И я понял, что «Данхилл» можно и убрать.
Москва. После спектакля «Милый друг». Тусовка по поводу присвоения ему звания «заслуженный артист». Немного растерян, как будто бы грустный даже.
— Получается, что тебе достаточно часто по жизни вправляли мозги.
— Ну как? Это же можно и забыть, но… Это как угол иголки, который сразу, если ты не глупый человек, тебя больно колет…
— Ну да, такое не забывается, как первая любовь. Кстати, к вопросу о первой любви.
— О чем ты?
— О первой любви.
— Такое сложное понятие. Я не знаю, что такое любовь. Я знаю, что такое влюбленность…
Любовь — это, наверное, когда проходит много-много времени… Я отца с матерью вспоминаю. Как они ругались из-за того, что мама где-то отдыхала и отец совершенно случайно приехал к ней и с кем-то ее увидел. Он вернулся в Москву, дождался окончания срока ее отдыха, и тогда… Они же сорок лет вместе жили. Это ревность, граничащая со страстью. Может, это любовь? Проходит много-много времени, и чувство влюбленности переходит в привычку, а потом ты вспоминаешь, что без этого человека ты не можешь жить. Ты чувствуешь его не то что сердцем, а так: вот это — мое. Я без этой половины жить не могу. Может быть, вот это любовь? Я не знаю, что это такое.
Чувство влюбленности — понятно. Когда хочется видеть, бежишь, цветы… Но проходит время, и оно становится меньше, меньше. Потом опять возникает. К другому человеку. На запах реагируешь. Почему мы в толпе останавливаем глаз? Реагируешь на каком-то подсознательном уровне.
— Сексуальный импульс — начало любви, писал один очень умный человек.
— Это страсть.
— Ты можешь убить в порыве страсти?
— Да. Иногда я ловлю себя на мысли, что это страшно. Но это так. Ревность, граничащая со страстью, — клубок очень опасный.
— В твоей жизни был такой случай?
— Я не могу себя контролировать.
— Под горячую руку лучше не попадаться?
— В этой ситуации — лучше не попадаться. Это было не один раз. Я потом пытался сам себя останавливать, корить за это.
— Ну… Ты бьешь женщину?
— Могу. Ударял. Поэтому и говорю, что могу.
— А ты любишь женщинам дарить подарки?
— Да.
— Дорогие или со значением?
— Нет, без значения.
— Какого цвета глаза у твоей любимой?
— Не знаю.
— Ты прослужил двенадцать лет в Театре Советской Армии. Какой главный урок тебе преподал армейский театр?
— Один гениальный урок — никогда ни с кем в театре нельзя общаться. Я могу в своем театре (имени Моссовета) общаться с Андрюшкой Ильиным, Ларкой Кузнецовой. Но так, чтобы приходить среди дня, сидеть, обедать, дружить, ходить в гости — нет. А в Театре Армии я себе это позволял. И когда я ушел из театра, большего говна в своей жизни о себе я не слышал. Хотя со мной все общались, я был любимчиком, сидел на этаже, где все народные артисты Советского Союза.
— Поэтому твоя жизнь — за семью печатями. Это сознательно?
— А почему надо интересоваться моей личной жизнью? Я хочу, чтобы что-то было моим.
— Тогда прошу быстро, не задумываясь, ответить на вопросы. У тебя есть собственность?
— Нет. Кроме машины, ничего нет.
— Дети?
— Есть. Двое.
— Вредные привычки?
— Все.
— Любимый цвет.
— Черный.
— Готовить умеешь?
— Жареную картошку.
— Водку пьешь?
— Пью.
— В баню ходишь?
— Нет. Могу пойти, но за компанию.
— Какими языками владеешь?
— Никакими. Польским на уровне пьесы «Макбет».
— Ответь как рыбак: на что лучше брать окуня?
— На червя.
— А тебя на что?
— А меня — на окуня.
— Какое твое слабое место?
— Это не быстрый ответ.
— На что тебя можно купить?
— На внимание.
— Артисты никогда женщинам не дарят цветы. А ты?
— Редко.
Москва. Между съемками «Марша Турецкого» и «Настоящих мужчин». Энергичен. В хорошем настроении. На подъеме.
— Почему ты, чем больше работаешь, тем больше сам хочешь все делать на съемочной площадке? И отказываешься от каскадера? Сам стреляешь, дерешься, переворачиваешься в машинах? Ведь ты подписываешь контракт, где такого пункта нет. Это глупость?
— Это азарт.
— Но ты же знаешь, что Урбанский погиб на съемках именно по этой причине.
— На «Марше Турецкого» мы с Кищуком договорились, что я сам перевернусь в машине. Он неохотно пообещал, но подумал, что я об этом забыл. Но я-то не забыл. Смысл трюка в том, что едет машина, в ней идет разговор. Ее обгоняет джип, открывается окно, автомат, очередь, водитель убит, машина вылетает на специально сделанный подъем и падает. Как она упадет — никто не знает. Может упасть как угодно. Но смысл в том, что в одном кадре машина вылетела и в этом же кадре из нее выходит артист.
Кищук меня спросил перед съемкой: «Ты, да? Ты серьезно? Да?» — «Но мы же договорились». — «Ну, поехали». И мы поехали. Мы репетировали, мы считали секунды, как я снимаю перчатки, шлем, расстегиваюсь, а потом вываливаюсь из машины. Насчитали, что это занимает ровно шесть секунд. Мы сказали об этом оператору. Рижская трасса. Пятница, день, все едут на дачу. Нам дают отмашку поехали. «Господи, дай нам…» Едем. Дальше — взлет, первый удар страшный, потому что машина как-то ушла в сторону, потом три раза перевернулась и встала на колеса. Первый вопрос:
— Жив?
— Жив.
— Давай.
И у нас шесть секунд. Я начинаю расстегиваться, а молния не отстегивается, хотя на репетициях все получалось. Руки-то дрожат. Дверь не открывается. Подходит каскадер: «Мудак, открой».
— Это самое острое ощущение, которое было в твоей жизни?
— Ну из последних — да. Адреналин выделяется… Мало не покажется.
— Ты, мягко говоря, испугался?
— Нет. Правда. Перед началом вроде все в порядке — нормально куришь, сердце не бьется. Но ощущение — как перед чем-то особенным. У меня пострашнее было, на съемках у Хоффмана в фильме «Огнем и мечом». Машина — она машина, ей сколько вломишь, столько она и пойдет. А вот конь Домар… Он вел себя очень непонятно. Я на нем сидел, но все время просил, чтобы конюх его держал. Вдруг он начал валиться на бок, что совсем не в его характере, и я два раза слезал с него: «Успокойте коня». Конюхам его два раза пришлось гонять, чтобы успокоился.
— Больше не будешь рисковать?
— Но так хочется…
— В таком случае психологи говорят: ты сублимируешь в работу неиспользованную страсть или энергию. Значит, не хватает острых ощущений по жизни?
— Я не знаю, что говорят психологи. Когда каскадеры это делают, ты смотришь и думаешь, что это так просто. Когда Кищук выходит из машины и спрашивает: «Сколько раз перевернулся — три или четыре?», на его лице выражение — вот она жизнь, сука.
— И у тебя такое же?
— Я скажу тебе — я не гнался за чем-то. Но когда к тебе вся группа подходит и говорит: «Можешь!..» — это…
— Интересно, что на съемках «Огнем и мечом» твою лошадь звали Домар. Твоя фамилия — Домогаров. Ты узнавал, что она означает?
— У мамы где-то есть древо: там литовцы и латыши, и русские, и украинцы, и немцы, и евреи…
— Вот радость-то русским патриотам узнать, что Домогаров — еврей.
Краков. Под Рождество. Рождественский базар возле Марьяцкого костела. Копченые колбаски на гриле. Горячий глинтвейн в бочках. Настроение соответствующее.
— Ты веришь в фатальность встреч на земле? В такую их неизбежность, что жизнь переворачивает?
— Сейчас уже верю. Происходит одно событие и переворачивает всю жизнь. Прошлая жизнь была хорошая, но Польша все перевернула. Вообще все. Я не шучу, когда говорю, что с той первой поездки в Варшаву на пробы, в девяносто восьмом году, я не могу остановиться. У меня нет времени останавливаться.
— Переход в категорию европейского актера. Как это отразилось на самочувствии внутреннем и на материальном?
— Самое интересное, что материально… такое ощущение, что я и не работаю. Кроме шуток. У меня нет денег. Нет, мне платят. Но я не умею их собирать. Не могу сказать, что я транжира, но я не понимаю, куда они деваются.
— И кто тебе поверит. Знаешь, что скажут?