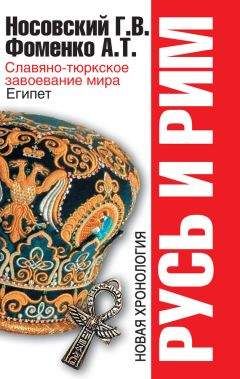Наталья Крымова - Владимир Яхонтов
Сальери постоянно думает о музыке, рассуждает и размышляет о ней. Он ее сочиняет. В Моцарте музыка живет как бы сама собой. Своя ли, чужая («Ты для него Тарара сочинил, Вещь славную. Там есть один мотив… Я все твержу его, когда я счастлив… Ла ла ла ла…»). Музыка для Моцарта есть сила добра, соединяющая его с жизнью. «Пошел, старик», — бросает Сальери нищему скрипачу. «Постой же, — останавливает старика Моцарт, — вот тебе. Пей за мое здоровье». Во второй картине эта реплика отзывается в страшном крике Сальери:
Постой,
Постой, постой!.. Ты выпил!.. без меня?
Он бросил яд в стакан Моцарта; тот поднял тост за их «искренний союз» и выпил. И тут раздается этот крик, этот вопль, где трижды повторенное «постой» отражает как бы разные душевные движения. Первое — почти жест, почти попытка вырвать стакан, секундное раскаяние. Во втором — сознание того, что поздно. А третий раз — как эхо, безнадежное, неживое, протяжное и бессмысленное: «посто-о-ой»…
«Без меня?» — неожиданная, непроявленная полумысль: только что, секунду назад, Моцарт связал их воедино, бросив реплику о Бомарше: «Он же гений, как ты да я». Связал — и тут же разъединил, сам того не поняв: «А гений и злодейство две вещи несовместные». И опять связал — подняв бокал за искренний союз «двух сыновей гармонии».
«Без меня?» — спрошено почти машинально, но это смутное предчувствие более страшной для Сальери правды, чем даже близкая смерть Моцарта. «Без меня?» — значит, нет союза с гением, значит, нет гения в Сальери. Моцарт жил, творил и через какой-нибудь час умрет — без Сальери, свободный от него. Моцарт умрет, но его так и не удалось обуздать, он все равно независим, недоступен, и сейчас, перед смертью, еще раз покажет это своему другу-убийце. И тот содрогнется.
Слушай же, Сальери,
Мой Requiem. (Играет.)
После паузы, в которой слышишь музыку, следует простой вопрос — Моцарт, видимо, почувствовал что-то за спиной и оглянулся. Или просто поднял глаза на Сальери:
Ты плачешь?
Как часто он задает вопросы — простые и дружеские, будто все время протягивает Сальери руку: «Ужель и сам ты не смеешься?» — это об игре скрипача. «Ба! право?» — это на слова Сальери: «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь». И постоянно: «Не правда ль?» Вслед каждой собственной, нечаянно великой догадке. «Гений и злодейство две вещи несовместные. Не правда ль?» «Нас мало, избранных… пренебрегающих презренной пользой… Не правда ль?»
Ты плачешь?
Необыкновенно светел и прост этот голос. В гении нет внутренней тьмы, нет черного умысла.
Особого трагического очарования полон момент, когда Моцарт рассказывает о «черном человеке».
Моцарт
Мне совестно признаться в этом…
Сальери
В чем же?
Кажется, Сальери вздрогнул: на него, на убийцу, доверчиво смотрят глаза Моцарта.
Мне день и ночь покоя не дает
Мой черный человек…
Моцарт смотрит в лицо Сальери, но говорит это медленно, будто не видит ни Сальери, ни комнаты в трактире, ничего, кроме своей судьбы:
Вот и теперь
Мне кажется, он с нами сам-третей
Сидит.
Почти детский страх, в котором «совестно признаться». Но предчувствие настолько сильно, что, может быть, в признании другу — хоть какое-то успокоение, освобождение. Ну конечно же, Сальери скажет: «Полно! что за страх ребячий?» — и станет легче, и можно будет пошутить, вспомнить о Бомарше и спеть мотив Тарара. В том, что можно для Сальери сыграть свой Реквием — тоже освобождение. Надо отделить от себя свое творение, отдать его кому-то — другу, людям.
Простой печальный вопрос: «Ты плачешь?» — тоже освобождение. Кто-то разделил твою печаль, значит, взял хоть часть ее.
Ну, вот и все. Ушел страх, осталась только физическая тяжесть, причину и следствие которой Моцарту не дано понять.
…я нынче нездоров,
Мне что-то тяжело; пойду засну.
Прощай же!
Ответив коротко «до свидания», Сальери остается один и вслед ушедшему произносит:
Ты заснешь
Надо-о-олго, Моцарт!
Только в этом бесконечном «надо-о-олго» будет миг удовлетворения.
Но ужель он прав,
И я не гений?
Если говорить о пушкинских знаках препинания, строго осмысленных и соблюдаемых исполнителем, то в этом месте Яхонтов их явно нарушает. После каждой из финальных фраз Сальери можно поставить и два, и три, пять знаков вопроса и столько же — восклицания: «Но ужель он прав???!!!»
Если вообще знаками можно что-то в данном случае выразить.
* * *То, что он не гений, Сальери понял, великий ум его не подвел. Возможно, понял он и то, что, хотя Моцарт сейчас умрет, его Реквиему, только что прозвучавшему, — жить в веках. А Моцарт, кажется, о собственном бессмертии не заботится. Ему явился черный человек, он смутно почувствовал, что это вестник «оттуда», но именно это пробудило в нем творческую силу и зазвучала мелодия. То, «что гибелью грозит» дало «неизъяснимы наслажденья». О том, что это «бессмертья может быть залог», Моцарт, наверно, не думал.
Пушкин — думал. Он чувствовал, подобно Моцарту, но думал больше и дальше. О своей собственной жизни, как теперь выясняется, он знал не все. Возможно, мы знаем больше. Но он знал что-то вне, за ее человеческими пределами.
За полгода до смерти он написал «Памятник».
Гений наделен большей способностью предчувствия, чем обычные люди. Это не мистика, а сверхобостренная чувствительность ко всему окружающему, неосознанное, но постоянное сопоставление явлений и процессов, незаметных и скрытых от простого зрения. Говорят: дар предвидения, пророческий дар. Предчувствие — предвидение чувством.
Можно улыбнуться над пушкинской верой в приметы и предсказания, но лучше этот смех оставить про себя, для наших собственных причуд на этот счет. Пушкинские предчувствия связаны не с предрассудками, а с тем, что гений многое ощущает иначе, чем простой смертный. В том числе — равновесие между жизнью и смертью, счастьем и бедой, памятью и забвением. У гения свои отношения и с прошлым, ушедшим, и с далеким будущим.
В конце концов «Памятник» — тоже своего рода предчувствие. Оно касается не житейских дел, а собственного на земле предназначения и судьбы своей — после смерти. Каждой строчкой начертав то самое, что спустя годы свершилось, и объяснив, почему это должно свершиться, Пушкин спрятал стихи в стол, не опубликовал. Когда Пушкин умер, тот же Жуковский, наверно, испытал при чтении «Памятника» не меньшее потрясение, чем Сальери при звуках Реквиема. Пережив это, он своей рукой исправил: «Что в мой жестокий век восславил я свободу» на «…Что прелестью живой стихов я был полезен», переставив слова в предшествующей строке и найдя там рифму своему любимому «полезен»: «И долго буду тем народу я любезен». Он исправил Пушкина ради все той же «пользы», о которой все сказано в «Моцарте и Сальери». Прошло еще сто лет, и слова Жуковского с памятника Пушкина были справедливо стерты, дабы на нем значилось пушкинское — о том, что свободу и в жестокие времена восславить можно, за что, в частности, и дается бессмертие.
Несколько слов о «Памятнике» в исполнении Яхонтова.
От Дмитрия Николаевича Журавлева про это исполнение пришлось услышать короткое: божественно! Это — после прослушивания пластинки, где «Памятник» читают А. Шварц, В. Яхонтов и сам Д. Журавлев. Это — от Журавлева, который постоянно и много читал и читает Пушкина, а в свое время невольно был втянут Яхонтовым в некое соперничество. «Божественно!» — говорит сегодня Журавлев о яхонтовском «Памятнике». Нет зависти, а только восхищение и радость от присутствия некой тайны искусства.
Известный каждому школьнику «Памятник» — тайна?
К счастью, это так. Иначе ничего не стоили бы все новые и новые публикации и толкования. Скажем, толкование М. Гершензона можно и оспорить, но нелегко отбросить. Исследователь высказал убежденность в том, что Пушкин, перечисляя ценности, дающие ему право на бессмертие, Излагает не свое, а чужое мнение, мнение тех, кто будет судить о нем через века и не минует в этих суждениях все той же «пользы». Лишь в последней строфе он отстраняется от чужого о себе суждения, выражая собственную окончательную мысль и о своей поэзии и о поэзии вообще.
Многие приметы указывают: эта статья была известна Яхонтову, как и вся книга М. Гершензона «Мудрость Пушкина». Автор исследования затрагивал многие вопросы, постоянно волновавшие Яхонтова. Напомним, что едва ли не первая мысль-вопрос, занесенная в «конспект» спектакля «Пушкин» в начале 20-х годов, была: «Что такое пренебрегать пользой?..» Пушкин отмахивался от данного рода пользы. «Ты пользы, пользы в нем не зришь». И т. д. Последняя строфа «Памятника» — это и его, Яхонтова, сокровенная заповедь, нарушения которой переживались им самим крайне болезненно.