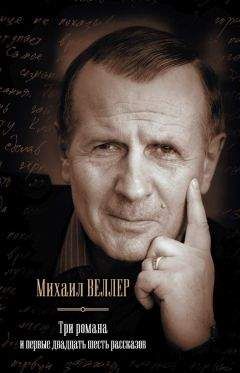Михаил Левитин - Таиров
Ну и так далее.
Живые говорили то же самое о себе. Всё это вызывало веселье в зале и одновременно интерес к теме, всё не пугало и не отягощало душу.
Основной прием был кинематографический. К примеру, зеркало, установленное в глубине сцены за ширмой, перед которой происходило действие, становилось еще одним планом спектакля, на нем могли появиться неожиданные детали, укрупнялись конкретности, белый букет роз на сцене возникал одновременно с белым букетом в зеркале, где действие переносилось в более ранние времена, когда не наш человек, инженер Габрух, дарил цветы Наташе Тарповой.
Можно ли было дарить цветы? Можно ли было брать их у классового врага? А иногда в зеркале была жизнь вагонного купе, в то время как на основной сцене — комната.
Персонажи говорили о себе в третьем лице, действие шло в двух планах, звук и изображение могли не совпадать. Сумасшедший дом!
Но организованный ритмически, как в хороших стихах, Терентьев был еще и поэт и совершенно не предвзято, как есть, как между своими, без всякой тайной цели, ничего не скрывая, ставил.
Александр же Яковлевич впервые за всю свою жизнь, посчитав тему необыкновенно важной, разрушил линию рампы Камерного театра, вынес все сомнения героев на трибуну, выдвинутую из оркестровой ямы, с которой персонажи делились с залом своими сомнениями.
Ради попытки поставить современный спектакль он нарушил главную заповедь Камерного — всегда оставаться за рампой, позволив зрителю присутствовать и благоговейно смотреть.
Эта трибуна, которой так гордился Таиров, была просто жестом отчаяния, и хотя после она стала расхожим местом в спектаклях других театров, достижением Таирова никак не могла считаться.
Таирову нельзя было ошибиться — два закрытых спектакля. Терентьев ошибался и побеждал, он был свой, он имел право лузгать семечки на пол и тискать в общественных местах девушек.
Ему не страшно было в новом мире, Таиров же должен был рассчитывать каждый шаг, чтобы не подвести Алису и театр, и вот он метался между инстанциями, метался, получая право на каждую новую реплику, обсуждал пьесу в парткомах, в фабкомах, он уже примелькался, этот господин с прядями волос, зачесанными наверх, разлетавшимися во время разговора, открывая проплешину, раздражая комсомольцев постоянной улыбкой, его интересом к проблеме, которая уже никого не волновала. Если человек — классовый враг, его нужно шлепнуть, а пока он не раскрыт, пусть дышит в ухо той, кто пожелает, ей же хуже.
Таиров учил Семенова в переписке, как делать из прозы пьесу, все время говорил, что пришло время каждому театру воспитать своего драматурга, репетировал с Алисой, как лучше согнуться от боли, когда в своей комнате она слышит по радио о смерти Ленина, как нужно произносить это имя — Ленин, как в «Федре» — Ипполит, а может, еще трагичнее.
Это имя потом будет звучать на всех сценах, на разных языках, в попытке произнести его особенно правильно и сокровенно. Интонации дойдут до шепота, до полного растворения личности, до рабского подобострастия, и лучшие из этих интонаций удостоятся правительственных наград. Коонен тоже произносила его с придыханием, но это было придыхание египетской царицы, великой актрисы, воспитанное на правде Художественного театра. Она звучала не так, она дышала не так, нельзя было доверить ей произнесение этого имени.
Таиров был сух и беспощаден к самому себе, всё было направлено на выяснение проблемы — и только, никаких шуток, никакой привычной игры Камерного театра, всё очень серьезно, проблему необходимо было поставить, может быть, даже начать решать в дискуссионном порядке.
А в это время другой драматург, тоже друг Маяковского, поэт-лефовец Сергей Третьяков, уже решил эту проблему в своей пьесе «Хочу ребенка», решительно решил, и эту пьесу сразу взяли к постановке Игорь Терентьев и сам Всеволод Мейерхольд.
Его героиня Милда, тоже пролетарского происхождения, не размышляла — можно любить, нельзя, просто искала здорового крепкого парня со здоровым крепким классовым сознанием, от которого только и можно позволить себе иметь ребенка. Вокруг мучились и гнили, изнывая от похоти и желания, а она просто пошла и предложила себя. Странная пьеса, в которой можно почувствовать многое, даже отчаяние автора. Если, конечно, захотеть. На самом же деле она была одним из вариантов решения вопроса, освобождающего человека от комплексов и ненужных размышлений.
Пьесу запретили и Мейерхольду, и Терентьеву. Вероятно, точка зрения власти на эту новую проблему была менее радикальной.
Кремль хотел ухаживать и любить. Он с изумлением и насмешкой взирал, как грузят себя писатели этими вопросами, а режиссеры вытаскивают их на сцену.
Отдаться или не отдаться классовому врагу — такого вопроса не было, классового врага надо уничтожать.
И здесь Таиров тонко почувствовал логику Кремля и придумал сцену с револьвером, который Наталья Тарпова вручает своему возлюбленному, чтобы он застрелился.
Такой сцены в романе не было.
И возлюбленный застреливается. И премьера выходит, и, увидев всю эту вампуку на сцене, Таиров сам, не дожидаясь скандала, не выдерживая творения собственных рук, не дожидаясь запрета, снимает этот нелепый спектакль. Эту новую «Федру» новых времен.
— Обратите внимание, — говорил он, как на суде, — и запишите в протокол: никто Камерному театру спектакля не запрещал, я сам его снял, сам. И в вину мне его, пожалуйста, не ставьте.
Так что «Наталью Тарпову» списали как неудавшуюся, но нужную попытку создания современной советской драматургии.
А пока Таиров приходил в себя от этого шума в ушах, именуемого «Натальей Тарповой», во время переговоров в Берлине о гастролях сам Бертольт Брехт вручил ему свою новую пьесу «Трехгрошовая опера» с музыкой Курта Вайля. Вот это была действительно построенная по-новому пьеса с очень крепким и независимым пониманием театрального искусства, и на ее постановку он набросился, как изголодавшийся человек на яблоко, впившись в плод зубами, хрустя и чавкая.
Это была настоящая здоровая пьеса о больной капиталистической действительности. В ее насквозь прогнившем пространстве можно было дышать, ясно было, что делать со всеми этими гангстерами, проститутками и ростовщиками.
Ему были вручены Брехтом роскошные песни и баллады, которые хотелось петь, расплясывая под музыку Вайля, петь и плясать перед залом, как в хорошем берлинском кабаре, и если что и осталось от той злополучной трибуны, так это обращение Мэкки к залу перед казнью, какую из двух проституток ему выбрать, и зал отвечал восторженным ревом.
Коонен после «Тарповой» дали отдохнуть, но оставались еще редкие по красоте женщины Камерного театра, и под прикрытием ихнего образа жизни с большим мастерством и воодушевлением поющие и отплясывающие.
Это был хороший, крепкий, не решающий никаких нравственных проблем успех Камерного театра.
Труппа была готова еще к одной гастрольной поездке, третьей, — Германия, Австрия, Чехословакия, Италия, Франция, Швейцария, Бельгия, Южная Америка.
ПОВЕСТЬ О ТРЕТЬИХ ГАСТРОЛЯХ
Ни один театр не выпускали за границу с такой охотой. Надеялись, что не вернутся?
Даже Мурочка спросила:
— А ты вернешься, папа?
Тогда было модно не возвращаться. Мир был полон ненависти к СССР, измена родине поощрялась.
— Я привезу тебе раковину, — сказал он, — очень большую. Океанскую.
Она представила себе раковину, белеющую в глубине, и зажмурилась. Ей всегда было страшно, когда он уезжал, и вместе с тем хорошо — вдруг не вернется?
Вдруг не вернется, и мама перестанет хмуриться, привыкнет, что его больше нет в ее жизни, и прекратит заниматься его делами, а займется ею, Мурочкой.
— Вам что-нибудь нужно, Оля? — спросил Таиров. — Что-нибудь специальное. Я всегда забываю спросить, что вам нужно.
— Нам нужно, чтобы ты вернулся, — сказала Ольга Яковлевна. — Чтобы гастроли прошли успешно. И не забывай, пожалуйста, обращаться к врачам, ты не такой уж здоровый человек, каким прикидываешься.
— И ты о том же, — говорил он. — И Алиса, и ты. Вы обе зачем-то напоминаете мне о возрасте. Я знаю, я помню, мне это совсем не помогает.
— Я не прошу каждую минуту об этом думать, просто не забывай.
Так тревожится о брате — сестра, о муже — жена, он никак не мог к этому привыкнуть.
— Это какие-то необычные гастроли, — сказала она. — Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айрес, Монтевидео. Твой любимый океан.
Она не стала спрашивать — помнит ли он, что в детстве они хотели поехать туда вместе. Быстро чмокнула в щеку, стерла поцелуй ладошкой и отпустила.
Театр уезжал в марте. Это был хороший здоровый советский март. За его вывеской как-то не особенно думалось об издержках коллективизации. Она шла полным ходом, людей сгоняли в колхозы, и Горький со всей ненавистью люмпена к мужику писал из Италии Сталину, какой тот молодец, мир должен быть переделан весь до основания — «Пользуясь случаем, еще раз поздравляю с полустолетней службой жизни. Хорошая служба. Будьте здоровы!»
![Лидия Кудрявцева - Этот ребенок - я сам[статья]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)