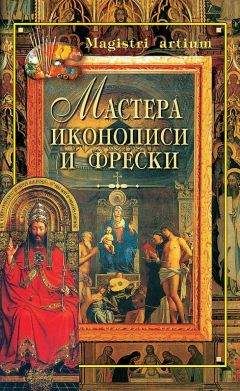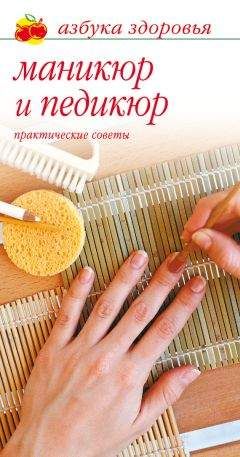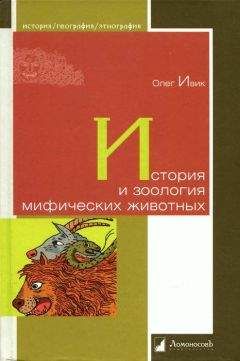Майя Туровская - Бабанова. Легенда и биография
Если бы Таня, выйдя из первых двух актов спектакля Театра Революции, могла очутиться среди героев «Города на заре», идея Арбузова могла бы считаться воплощенной. Но прийти в гости к студийцам могла разве что Мария Ивановна Бабанова — знаменитая артистка. Она и была первой зрительницей спектакля, ее привел Арбузов.
Из бесед с М. И. Бабановой
«Помню, это было на квартире у драматурга Исидора Штока. У него комната была огромная, они играли прямо на полу два акта. Мне очень понравилось».
Но романтика «Города на заре» обеспечивалась тем, что в Театре Революции давно уже осталось в прошлом: романтикой ночных репетиций, неудобствами сцены, которые толкают к дерзким решениям, просто молодостью. Немало способных участников студии нормально работают в нормальных театрах и давно уже в свою очередь стали маститыми — режиссер Валентин Плучек, драматург Исай Кузнецов, актер Зиновий Гердт. А иных, как юного поэта Севу Багрицкого, унесла война…
Театр Революции хотел ставить «нормальную» пьесу.
Борьба воль — если, разумеется, люди, которые делают спектакль, обладают творческой волей — вообще случается в театре чаще, чем это кажется. Последующая легенда обычно приводит ее к видимости гармонии. Случается и так. Но бывает и иначе. На «Тане» все было как раз иначе. Каждая из сторон — автор, режиссер, актриса — думали по-своему.
Из рассказа А. Н. Арбузова
«Ничего более странного, чем репетиции “Тани”, я никогда не видел. С Марией Ивановной Лобанов вообще не репетировал. Он, можно сказать, от нее бегал и репетировал всё, кроме ее сцен. Например, разъезд гостей после вечеринки, где Герман объясняется с Шамановой. Он говорил, что все драмы в России происходят у вешалки, и долго ставил эпизод Германа с папиросой после ухода Шамановой.
Марию Ивановну я видел, но не на репетициях: это как раз было время нашей “компании”…»
Андрей Михайлович был терпим к Бабановой, как волей-неволей были к ней терпимы другие режиссеры. Но Лобанов был терпим «волей» скорее, чем «неволей». В театре бытовала шутка: «Ходите тише, Лобанов на репетиции спит». На самом деле у него была кутузовская тактика: он ловил момент актерской догадки и развивал его. Он тщательно работал над фоном, предоставив Бабанову обычным ее мучениям: она, как всегда, искала «танец роли». Другим надо было помочь для начала найти смысл.
{233} Из рассказа А. Н. Арбузова
«Мария Ивановна репетировала Таню, как ей хотелось, и Андрей Михайлович не очень в это вмешивался. Он как раз начал ставить эпизод самодеятельного спектакля, который очень его увлекал и здорово получился, а Бабанова сказала, что режиссер ей не мешает и этого достаточно. У них были добрые отношения. У меня, наоборот, отношения с Лобановым портились. Наверное, он был прав — хотел быта и утверждал, что люди в жизни говорят с паузами. Он и к Бабановой не прочь был применить свои требования — ему казалось, что для Джульетты или “Собаки на сене” ее “пение” прекрасно, но в жизни так не говорят: нужны паузы, многоточия. Но это в теории, на практике он в ее работу не вмешивался.
Я не находил с режиссером общего языка, актриса же мне казалась моей сторонницей. Но как она делала роль, я тоже не очень знаю: несмотря на тогдашние наши приятельские отношения, ничего подобного режиссированию, “работе над ролью” она не допускала. Иногда делала поправки в тексте, но деликатные. У меня Таня говорила: “Шел снег, и я глотала его, как манну небесную”. Мария Ивановна спросила: “Можно, я буду говорить: как мороженое?” Я сначала опешил, но потом мне стало казаться, что только так и можно, и это во втором варианте вошло в текст.
Мне всегда было по душе ее пристрастие к абсолютной точности мизансцены. Вот стул. Она должна отойти от стола и сесть. Она идет и считает шаги. Она может примериться десятки раз, как ей сесть. Но если она нашла — то это навсегда. Сейчас так никто не работает. Она осталась верной ученицей Мейерхольда и умела добиваться того, чего он хотел от актера: зритель видит результат как бы импровизации».
Между тем как раз перед «Таней» — 7 января 1938 года — Театр имени Мейерхольда был закрыт приказом Всесоюзного комитета по делам искусств. Событие это выходило далеко за рамки борьбы театральных течений. Недаром Константин Сергеевич Станиславский был первым, кто протянул опальному режиссеру руку помощи и предложил ему работу.
Случилось так, что именно в это время бывшая актриса Мейерхольда в первый и последний раз ясно сформулировала свои расхождения с «психологическим» театром: «Я не люблю излишней, на мой взгляд, актерской “свободы”. Слишком уж все свободно в спектакле — можно и наоборот. От художника надо требовать определенности мысли и формы. Я всегда страдаю от неопределенности разрешения сценической задачи. Если актер или автор оформления готов делать все, что угодно, — значит, он не уважает свой труд. Я не люблю “пожалуйста” в искусстве». Так она сказала в том разговоре Журналиста, Драматурга и Актрисы о «Тане», который Арбузов назвал «триалогом»[218].
Но только в этом смысле и была она союзницей автора. «Не думайте, что психофизический аппарат актрисы может выполнить все, что нам с вами заблагорассудится», — сказала она ему тогда же. Действительно, ее психофизический аппарат, всегда готовый к милым нелогичностям, к внезапным капризам чувств, к «шуткам театра», вовсе не был приспособлен к тому, чтобы передать перемену в чувстве. В этом смысле «личная тема» Бабановой была прямолинейна. Оптимистический финал, где Таня, разлюбив Германа, отдавала свое сердце Игнату Соколову, был не для таланта и не для характера Бабановой. {234} Все ее человеческое существо противилось этой в общем-то вполне житейской коллизии. Ей казалось, что она не умеет любить на сцене. Оказалось, что на сцене, как и в жизни, ей еще труднее разлюбить.
Она сказала о Тане слова, которые навсегда потонули в волнах восхищения и в дебатах «за» и «против» романтики. Между тем в своей бесстрашной обнаженности, в своей прозаической деловой точности они были так же замечательны, как защита ею своего «мейерхольдовства»:
«Не обязательно искать замену Герману, это даже снижает значительность происшедших с Таней событий… У меня с этой ролью связана одна тайная мысль: “женщины, умейте быть одинокими, не бойтесь мнимого одиночества”. Таня утратила преходящее, нашла вечное»[219].
Высказывая во всеуслышание эту «тайную» свою мысль, не расслышанную впрочем, никем ни тогда, ни потом, Мария Ивановна Бабанова не знала еще, что предсказывает свою собственную судьбу. Так бывает: художник заранее проживает в воображении то, что когда-нибудь ему суждено будет пережить в действительности. Можно было бы сказать, что, заглядывая в возможность, он неосторожно «зовет» эту судьбу.
Но в этих словах предсказала Бабанова и нечто гораздо большее: траекторию женской эмансипации, находившейся тогда в самом оптимистическом своем зените. Траекторию вовсе не очевидную: «новая женщина», беспечно предоставившая свое место на коммунальной кухне вовремя подвернувшейся домработнице и устремившаяся к «творческому труду», еще вовсе не знала всех психологических и социальных последствий, которые проистекут из этого в отношениях между полами, в быту, в самум институте семьи.
Так — в тройственном несогласии — создавался спектакль, которому суждено будет стать самым долговечным спектаклем советского репертуара за все время существования нашего театра.
Я со школьных лет помню начало «Тани» — это удивительное ощущение «легкого дыхания», какого-то новогоднего счастливого ожидания, которое вносила Бабанова в тесное пространство сцены, придвинутое к зрителю светящимися панно художника Варпеха. Как будто оттуда, где помещались непрезентабельные кулисы Театра Революции, летел ей вслед тот праздничный, веселый снег, который и вправду хочется глотать, «как мороженое».
Таня входила с лыжами, в белой пушистой шапочке, которая сразу стала мечтой всех москвичек, скидывала шубку, легко кружилась, напевая под радио первые попавшиеся, вполне прозаические слова:
«Все готово,
Где же Герман?»
Входила, как в блоковском стихотворении:
«Она пришла с мороза,
Раскрасневшаяся,
Наполнила комнату
Ароматом воздуха и духов,
Звонким голосом
И совсем неуважительной к занятиям
Болтовней».
{236} Можно было даже представить себе, что духи, которые употребляла бабановская Таня, были «Манон» — в плоском флакончике с граненой остроконечной пробкой, маленькой сизо-голубой этикеткой и тонким, девически-кокетливым ароматом — стойкие духи фабрики «Ленжет».
По сути, «Таня» начиналась там, где «Собака на сене» оканчивалась — на высшей и оттого неустойчивой точке счастья.