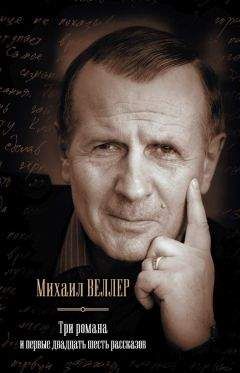Михаил Левитин - Таиров
«Они совсем не владеют атмосферой, — подумал он об актерах, — играют в полом пространстве между порталами. Но даже у них в театре совсем все иначе, чем у вахтанговцев, например. Там тоже кривляются, но как-то обаятельней, что ли».
…А это у него откуда? Моими руками счеты с Мейерхольдом сводит. Наверное, из какого-нибудь «Рычи, Китай». Черт с ними, сами разберутся.
А балет хорош! Замечательно он их выдрессировал. Почему так ни в одном театре не танцуют? Особенно та, с правого края. Забавная!
И чем больше Таиров репетировал и сквозь слова начинал проявляться спектакль, тем больше ужас происходящего начинал становиться ясен им обоим.
«Закроют, — подумал Таиров. — Надо мягче. Обязательно закроют. Ну и черт с ними, надоели!»
— Ногу, острей держи ногу! — крикнул он одному из туземцев. — У вас худые коленки, обнаружьте, что они худые.
«А Булгакову не нравится, — подумал он. — Сидит, кривится. Конечно, у них в Художественном по-другому. Вот, улыбнулся. Почему он улыбается там, где не смешно? Пусть улыбается, где хочет, с ним хорошо о Киеве говорить, а памфлет он и есть памфлет, не слишком ли мы размахнулись, часа на три? Такой спектакль должен идти не больше двух. И вычеркнуть нельзя. Жалко автора. Ставим о тех, кто вычеркивал, и сами вычеркиваем, как-то не вяжется. Ничего, всё впереди. Это просто удивительно, что они разрешили пьесу, воображения у них не хватает».
Второй акт закончился. Они посмотрели друг на друга и улыбнулись. Вообще-то им нравилось, вообще-то было похоже. На театр похоже, и на всё сразу. Не стоило предъявлять друг другу претензий. Они в одном положении, им нужно отомстить, и они отомстят, они скажут правду.
Другое дело — кому она нужна, эта правда. Им самим и нужна, театру.
Еще совсем немного, и на сцене нечем будет дышать. Зажали со всех сторон, и еще удивляются, что Михаил Чехов уехал, Грановский с театром возвращаться не хочет. Нужно смелее, откровеннее, и будь что будет.
— Это не капустник! — крикнул Таиров. — Сколько можно вам говорить?! Это все что угодно, только не капустник.
— Это такая жизнь, — не выдержал Булгаков. — Товарищи, дорогие, не играйте из какой-то чужой, она ваша, жизнь Камерного театра. Вы простите меня, Александр Яковлевич…
— Ничего, ничего.
«А сам обиделся, — подумал Булгаков. — И куда я встреваю? Он здесь король, а я пришелец. Вот как этот Дымогацкий со своей пьесой. Меня гнать надо, а я с замечаниями».
— Александр Яковлевич, — тихо попросил он, подойдя сзади к столику и обнаруживая перед собой плешь Таирова между сбившимися в сторону прядями волос. — Может, я Дымогацкому еще несколько фраз подпишу? О том, что ему за квартиру платить нечем.
— Зачем? — удивился Таиров, спешно заправляя пряди. — А впрочем, — внезапно понял он и загрустил, — подпишите, подпишите.
«Не пропустят, — подумал Булгаков. — поймут, что про себя, и не пропустят. А Таиров — малый хороший. С ним бы о Киеве поговорить. Интересно, что он о Фундуклеевской помнит? Тех трех музыкантов помнит? Из консерватории. Чудесные музыканты! Я всегда им копеечки таскал из дому. А базар помнит? А сало полтавское с корочкой? Какое сало, у него, кажется, печень больная, все время поглаживает, ему диетическое надо готовить. И не пьет, по-моему, совсем, — подумал он и пожалел Таирова, вспомнив о Коонен. — Как же, приготовит она ему… диетическое».
Но какие бы ни были взаимные претензии, боролись они вместе. На «Багровый остров» набросились сразу, при первом же просмотре, и рвали, рвали.
Здесь даже огрызаться не успеваешь, как же те всполошились, узнав себя!
Они-то думали, что Савва Лукич — Луначарский, хотели руками Камерного Луначарского отстегать, а тут оказалось, что Савва — это они дурачки, сами.
Спектакль для следующего просмотра разрешили, только когда революционную музыку дали, ну точно, как в пьесе.
«Эх, побольше бы юмора, — подумал Булгаков. — Тогда не заметили бы многого, пропустили».
«Трюков мало, — подумал Таиров. — Как-то он меня очень смущал, этот Михаил Афанасьевич, не надо было его на репетиции пускать! А как не пускать? Автор, да еще талантливый».
Где-то в глубине таировской души таилась надежда, что это не разговоры о симпатии Сталина к Булгакову, авось пропустит, на «Турбиных» сколько раз ходил, может, и к нам заглянет?
«Я для него обязательно приглашение передам, — подумал Таиров. — И будь что будет! А то его свита такое наговорит, вовек не отмоешься! Надо с Анатолием Васильевичем посоветоваться, кого в этот раз пригласить. Нужна последовательность, не обязательно всех сразу, не сталкивать лбами, не дай господь, еще выработают единую платформу. И жены между собой не дружат»…
Но с каждым новым обсуждением становилось ясно, что спектакль не жилец, ох, не жилец, и долго на сцене Камерного не протянет.
— Вы, Миша, деньги все сполна можете получить, — шепнул Таиров между речами. — Я подписал. Касса у нас в четыре закрывается.
— Очень кстати, Александр Яковлевич, фрак новый купить, не в чем в американское посольство идти, у вас на меня фрака в театре не найдется? А то у вас, небось, все какие-то с прибамбасами, причудами…
— Найдется и без причуд, — засмеялся Таиров. — До чего же вы нас, формалистов, Михаил Афанасьевич, ненавидите!
— И совсем даже не ненавижу, — сказал Булгаков. — Вот вы сколько всего смешного придумали.
Они могли шутить и любоваться друг другом, у них было сколько угодно времени, пока спектакль ругали. Они не могли только одного — защитить «Багровый остров».
— И не просите, Александр Яковлевич, — сказал Луначарский. — Уже хорошо, что поставили, удовлетворение получили, по морде дали, пусть они теперь вертятся, им здорово достанется, что они репетировать разрешили, это даже не «Заговор равных»…
— Но и вам влетит, Анатолий Васильевич.
Луначарский как-то криво улыбнулся.
— Между нами, — сказал он Таирову, — мне уже как-то это безразлично, лечиться надо, сердце пошаливает.
Сердце оказалось самым настоящим пророком. Несмотря на успех у зрителя, спектакль после шести первых представлений закрыли.
Вот тогда-то или почти тогда и спросил Билль-Белоцерковский у Сталина в письме от имени пролетарских драматургов: «Доколе?»
Доколе Булгакову можно будет писать и пьесы его будут играть на сценах сразу трех московских театров? Зачем потворствовать чужим, ведь Булгаков — чужой?
И Сталин по некотором размышлении ответил: «Пишите лучше, дорогие товарищи, вот тогда ставить будут и вас, а так, на безрыбье и Булгаков — рыба. Вот „Дни Турбиных“ — пьеса о белых, а работает на нас. По-разному бывает, дорогой товарищ. А вот что Камерный театр — чужой театр, не наш, буржуазный театр, тут вы, товарищ, определенно не ошибаетесь».
* * *А тут еще умер Якулов и стало по-настоящему грустно, хотелось винить самого себя. Смерть спектаклей была объяснима, друзья же умирали как-то сами по себе. И хотя Якулов, постоянно исчезая куда-то, давно не работал в Камерном, пришло время братьев Стенбергов, Таиров переживал его смерть очень тяжело, отбросив на время даже неприятности своего театра.
Вообще оставалось еще очень понять и понять, что страшнее — угроза существованию Камерного театра или смерть твоих друзей?
Правда, они только начали уходить, но все равно их смерть относилась прежде всего к тебе.
Он был очень совестлив и стал вспоминать, чего не сделал для Якулова. Последние месяцы даже не очень и вспоминал, что тот лежит в больнице, в Сухуми, и шлет оттуда ему, Таирову, жалобные письма.
Легко было оправдать свое поведение делами театра, и Якулов прекрасно бы его понял, но он, Таиров, сам-то что, при чем тут театр?
Служебный эгоизм — один из самых страшных видов эгоизма, самая сильная зацепка за жизнь. Демонстрировать каждому, что ты незаменим, нужен здесь на земле, а кому ты там нужен?
Вот Якулов оказался нужен, он уже там, один из первых, и, несмотря на теперешний атеизм Таирова, ясно видно, как он раскладывает перед Богом свои рисунки. А что предъявит он, Таиров, бумаги на разрешение или запрет спектаклей?
Ничего не остается от театра, и вот что удивительно, об этом думается, когда все здоровы, даже некую браваду этим демонстрируешь, а когда умирают друзья, кроме них действительно ничего не жалко.
Жорж Якулов был один из тех, кто создавал Камерный, может быть, самый важный, такой же, как Экстер. Он вносил в жизнь легкость и необязательность, чего так не хватало Таирову, о чем он обязал себя забывать, занимаясь, как ему казалось, более важным делом.
А что важнее жизни?
Только Алиса. Она тоже страдала из-за Якулова и убеждала, убеждала Александра Яковлевича, что ему необходимо перестать страдать, Жорж прекрасно бы его понял, надо как можно скорее организовать перевозку тела в Москву, провести панихиду и вернуться к делам. Ее очень тревожит его инертность. Если это связано с Жоржем, она понимает, ей и самой грустно, а если это что-то другое, то пусть он позволит ей в такие скорбные минуты сказать правду: нельзя поддаваться отчаянию, думать только о себе, провалы необходимы художнику настолько же, насколько и победы.
![Лидия Кудрявцева - Этот ребенок - я сам[статья]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)