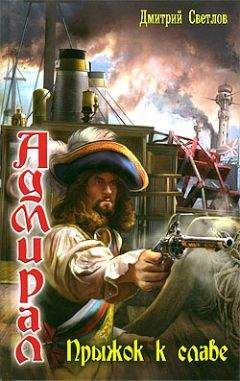Елена Полякова - Станиславский
Вместо ответа Отелло «страстно обнимает» жену:
Нет, жизнь даю за верность Дездемоны…
Станиславский видел Венецию; на Кипре он не бывал никогда. Тем не менее он видит этот остров так, словно и там долго жил, присматривался к киприотам, как к знакомым любимовским мужикам, понял, каким важным стратегическим пунктом является остров, как разнообразно его население, как ненавидят турки-магометане венецианцев-христиан, используя малейшие предлоги для восстаний. Будничен приезд Дездемоны и Отелло на остров, хоть и салютуют новому губернатору пушки, — моросит нудный, затяжной дождь, прохожие идут под зонтами, носильщики шлепают по лужам, офицеры-венецианцы собрались в таверне, откуда слышатся звуки музыки и смех.
Драма Отелло и Дездемоны воспринимается режиссером как часть общей жизни, неразрывно с нею слитая. Кажется даже, что его больше интересуют эти оборванные носильщики-турки и веселящиеся солдаты, чем такой центральный персонаж, как Яго.
Его играет профессиональный актер, который не нравится режиссеру, и режиссер впоследствии будет писать о том, как он скрывал недостатки исполнителя, как в финале сцены у дожа нарочно погрузил сцену в темноту, ввел привратника с фонарем, чтобы отвлечь зрителей от главного — от монолога Яго.
Но, пожалуй, это свидетельствует не о мастерстве, а о недостатке мастерства режиссера. Он не преодолевает недостатки актера, не меняет качество исполнения, а — буквально — затемняет его. Может быть, и не столь уж виноват актер: ведь в самом режиссерском экземпляре Станиславского Яго совсем не интересен; ему оставлена только одна краска — притворная веселость. Он только «злой»; человеческая сущность Яго никак не раскрывается режиссером, — он безжалостно сокращает эту важнейшую роль, ему интересны по-настоящему две темы, две силы пьесы — жизнь в ее полной реальности и Отелло.
Он тщательно обдумывал и долго репетировал роль Отелло. Искал его внешность в тех же прямых «образцах из жизни»; Отелло было труднее встретить, чем Обновленского, но актер и его встретил — на парижской улице. Он знакомится с красавцем-арабом, бывает у него, наблюдает за каждым его движением, так же восхищенно и зорко, как за немцем для своего петербургского жениха Фрезе. Перенимает его манеры, походку, непринужденное ношение белого бурнуса и белой бедуинской головной повязки, перетянутой пестрым жгутом. Очень заботится о костюмах для своего героя — у него тоже должен быть арабский бурнус, восточный халат, мягкие сапоги, рубаха крымского полотна, даже «японские поножники», «ярмолка», шитая бирюзой, персидский кушак, турецкие пистолеты. Режиссер и актер подробнейше разрабатывает все поведение Отелло, открыто продолжая трактовку Сальвини, столь близкую русской школе, тому «доверчивому Отелло», которого играли все русские актеры, от Мочалова до Ленского. Станиславский играет не дикаря, а человека высокой культуры, вошедшего как равный в венецианское высшее общество и стоящего выше этого общества, как арабы времен крестовых походов были выше алчных и невежественных европейских рыцарей (снова это не результат изучения исторических источников, а интуитивная находка гениального художника).
Трагедию Отелло Станиславский выводит не из свойств его собственного характера; напротив, этот человек чистой души, высокой любви, великого доверия к людям создан для добра и гармонии. Трагедию создает злая воля другого человека, роковые обстоятельства, создаваемые этим другим. Борьба добра со злом воплощается для режиссера в столкновении совершенно реальных — добрых и злых — людей.
В поисках всех своих образов Станиславский непременно применяет закон: «когда играешь злого…», «когда играешь доброго…». Это сразу же, всегда помогает найти объемность, психологическую достоверность, диалектику любого образа, но вовсе не разрушает образ, не делает расплывчатыми те моральные критерии, которые определяли для Станиславского жизнь и искусство. Основа, доминанта образа существовала всегда — Имшин в основе своей оставался тираном и самоуправцем, Отелло изначально склонен к добру, живет ради добра, как Ростанев, как Акоста, как все любимые герои актера Станиславского. Доминанта образа — простодушный Отелло, доверчивый мавр.
Эта доверчивость, ясность, нежная влюбленность в жену-патрицианку трогает и увлекает зрителей; но в третьем акте наступает неизбежный перелом, и Отелло неизбежно должен стать ревнивцем и убийцей, впоследствии трагически прозревшим, ужаснувшимся. Станиславский ищет краски для этого «темного» образа. В режиссерском экземпляре он отмечает, что во время диалога с Дездемоной Отелло «злобно и недоверчиво» качает головой, «сдерживает себя, чтобы не кинуться и сразу не растерзать ее». После ухода Кассио мавр «как тигр» выскакивает из своей засады, «как сумасшедший» спрыгивает с тахты.
Станиславский может играть доброго человека и трагедию обманутого добра, может найти характеры Обновленского или Ашметьева, совершенно с собственным характером несхожие; но он не может играть ревнивца, убивающего женщину, «дикаря», «тигра». Он совершает действия, предписанные ему автором, и комментирует их, не веря в них. Поэтому последние акты так сильно сокращены, но почти не прокомментированы Станиславским-режиссером. Он находит гениальные детали для изображения повседневности жизни Венеции, ночного заседания во Дворце дожей, поведения Отелло, который узнал об измене жены — и солнце почернело для него, но пришел какой-то турок с бумагой, адресованной губернатору, и Отелло «успокоился, утерся, молча взял перо и стал подписывать подаваемые ему Яго бумаги». А комментарии к последним сценам Отелло — банальны, тянут к прежним увлечениям, к оперным эффектам: «как тигр»…
Роль Акосты набирает силы к последнему акту, роль Отелло, так увлекательно и обещающе начатая Станиславским, идет на спад к финалу.
Не стонет, не замирает зрительный зал, когда появляется Отелло в спальне Дездемоны, когда, прозревший, убивает он себя. Спокойно расходясь после спектакля, зрители толкуют о том, что господин Станиславский — превосходный режиссер и актер, но никак не трагик.
Между тем для трагедийного спектакля грядущего, двадцатого века эти постановки будут иметь большее значение, чем сами спектакли Сальвини. Там спектакль определяет один гениальный актер; здесь исполнение актера определяется, направляется общим замыслом спектакля. Здесь пьеса классика, для воплощения которой на театре давным-давно существует целый ряд проверенных приемов, возвращается в реальность, минуя все штампы, а заодно даже и традиции.
Поэтому, когда французский критик Люсьен Бенар, восхищаясь игрой Станиславского в «Самоуправцах» и общим решением «Отелло» («пьеса поставлена замечательным образом, с совершенством, превосходящим все, что я когда-либо видел во Франции или в Германии»), все же любезно и тактично упрекает исполнителя заглавной роли:
«Несмотря на то, что Вы хорошо поняли душу Отелло, Вы не играли его в шекспировских традициях… Я не сомневаюсь, что если бы Вы поработали с Ирвингом или Сальвини, Вы бы создали прекрасного Отелло», — Станиславский отвечает критику письмом очень пространным и гораздо более категоричным по тону.
Он поспешно соглашается с тем, что спектакль неудачен (об этом как раз Бенар вовсе не говорил) и что он сам «провалил» роль Отелло (об этом критик тоже не говорил); он спорит с одним, с главным для себя — с пониманием «традиций Шекспира» и с самим понятием «традиция».
Слово «традиция» для него сейчас — только ругательство, традиция равна бездарности. Причем к традиции театральной — скажем, к Муне-Сюлли, играющему Шекспира традиционно, то есть для Станиславского бездарно, — он приравнивает и совсем уж сторонних его теме комментаторов Шекспира, историков литературы, объявляя, что «самые большие враги Шекспира — это Гервинусы и другие ученые критики… Не создайся целой громадной научной библиотеки о шекспировских героях и пьесах, все бы смотрели на них проще и отлично бы понимали их, так как Шекспир — это сама жизнь, он прост и потому всякому понятен».
От Шекспира автор письма переходит к Мольеру; ему важен единый принцип подхода к классике — это принцип соотношения с жизнью, а не подражание актерам предшествующего поколения. Актер, играющий Мольера, для него значителен только тогда, когда он отходит от традиции, когда он воплощает реальный характер героя. И Коклен-старший, и Коклен-младший, и Лелуар, и Фебвр — прославленные французские исполнители Мольера — не существуют для москвича; он считает, что немцы (мейнингенцы) лучше играют Мольера, нежели французы, он с благодарностью вспоминает Ленского — Тартюфа и кончает письмо призывом: «Отрешитесь же поскорее от традиций и рутины, и мы последуем вашему примеру. Это будет мне на руку, потому что я веду отчаянную борьбу с рутиной у нас, в нашей скромной Москве. Поверьте мне, задача нашего поколения — изгнать из искусства устарелые традиции и рутину, дать побольше простора фантазии и творчеству. Только этим мы спасем искусство. Вот почему мне было больно услышать от Вас защиту того, что я признаю пагубой живого искусства, вот почему теперь я так много написал».