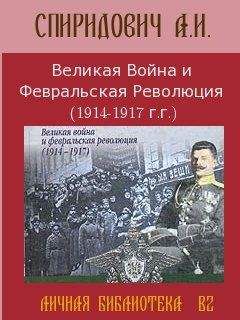А. Кугель - Профили театра
Он, сколько я помню, кипел избытком сил. Часто, когда некуда было их девать, впадал в игрецкий транс. К весне, бывало — конечно, в давние годы — он начинал тосковать. Потом уезжал в Монте-Карло и после недели-другой игрецкой лихорадки возвращался облегчив тоску я, разумеется, карман.
{217} Так шли годы. Подкрадывалась старость, которая ступает, если не скользит, в бархатных сапогах. В Южине проявилась новая черта — ирония. Он очаровательно стал играть в комедиях. Это не было разочарованием в романтике. Это было разочарование в жизни, лишенной романтики. Он оставался в этом смысле верен себе. Его Болингброк («Стакан воды») или Фамусов — исключительные по мастерству и уму фигуры комедии. Ничему не удивляться и глядеть умудренным уже взором на играющий мир — ибо «Totus mundus agit histrionem».
С Южиным ушел в могилу, быть может, последний настоящий актер, — актер натурой, актер — творчеством, актер — литературой, актер — мировоззрением и мироощущением. В статье Южина «Личные заметки об общих вопросах театра» проводится мысль, что пора вернуть театр его настоящему хозяину — актеру. Южин не мог примириться с тем, что в современной организации театра актер значит немногим более плотника и многим меньше электротехника. Все доводится или стремится быть доведенным до механической простоты, и театр становится похожим на подводный корабль капитана Немо, который от нажима кнопки ныряет или поднимается на поверхность, меняет курс или бросает якорь, увеличивает или уменьшает скорость, впадает в сон или стреляет из пушек. Южин писал апологию актера. В этом была {218} его драматургия. «Никакие качества, — писал он, — не делают драматурга, раз он не разработал в себе еще и способности передать обществу задуманное им не в непосредственном общении с единичным читателем книги, а с целой толпой».
Такой же апологией актера была его жизнь. Он не скупился жить. Был щедр. Даже щедрее, чем природа, которая также ничем его не обидела и одарила всячески. Ну, а если бы он скупился и еще прожил пяток лет? Стоит ли? Не был ли он прав в бурной стремительности своей богатой, красивой и ярко изукрашенной жизни?
До последнего времени он сохранил все тот же интерес к театру. Он написал мне несколько писем по поводу обещанной им статьи об Ю. М. Юрьеве для сборника, который я редактировал. Всякий пустяк, касавшийся его работы, его волновал. Я ему рассказал как-то анекдот, как полковник-эмигрант, после перипетий гражданской войны оказавшийся в Париже, пришел в Елисейские поля, да так и ахнул от увиденного великолепия. Но потом вздохнул и прибавил: «Только делать-то что? Кэ фэр? Фэр-то кэ?»
«Фэр-то кэ», — пишет мне Южин, которому анекдот очень понравился, — по поводу того, что стенографистка запоздала или не пришла. Кое как я его успокоил.
{219} Подобной цельности актерской натуры, при такой кипучей разносторонности, русский театр давно не знал. И когда я думаю о достойной и краткой эпитафии на гроб А. И. Южину, то мне хочется просто сказать, перефразируя слова Гамлета об отце:
— Актер он был.
{220} Театр Чехова
I
Материалы, касающиеся Чехова — его письма, его записная книжка — дают очень много для уяснения не только лично Чехова, но и «чеховской сущности» его произведений, и, пожалуй, всей генерации, к которой примыкают его герои. Главная ось творчества, истинная сущность писателя, его миросозерцание, миропонимание, его идеалы, его отношение к человечеству получают на основании этих материалов не совсем то разрешение, к какому успела приучить читателей литературная критика. Критическая литература о Чехове нагромоздила много совершенно неверного. Письма и записная книжка Чехова в этом смысле способны разгромоздить многое и устанавливают, при сколько-нибудь внимательном чтении материалов, весьма определенную точку зрения на его творчество, манеру и отношение к жизни. От Чехова хотели не того, чем он был — хотели при жизни, хотят и после его кончины. А интересен, {221} хорош и мил Чехов такой, каким он был, а не такой, каким его хотели видеть.
Возьмем, например, несколько строк из письма Н. К. Михайловского к Чехову.
«Я ничего не могу возразить, — пишет он, — против отсутствия в вас определенной веры — на нет и (суда нет. Не считаю себя, разумеется, вправе касаться ваших личных чувств к Суворину. Но позволю себе не согласиться с одним вашим аргументом. Вы пишете, что лучше уж пусть читатели “Нов. Врем.” получат ваш индифферентный рассказ, чем какой-нибудь “недостойный”, ругательный фельетон… Вы говорите об аристократической брезгливости ясной силы, не делающей чести ее сердцу. Здесь нет аристократизма, Антон Павлович, а сердце есть сердце и участие к тем, кто по тяжелым обстоятельствам времени вынужден ежедневно питаться гнусностями».
Письма Чехова к Михайловскому в имеющемся у меня под рукой материале нет, но что писал Чехов Михайловскому — ясно из приведенных строк. У него не было «веры», т. е. политического и общественного догмата. И затем у него была «вера» в спасительность «индифферентизма», в‑третьих, он полагал, а вернее, старался внушить себе, для оправдания своего индифферентизма — что «веру» создает дух гордыни, неизменным спутником которой является некоторая сухость сердца. Признание Чехова избавляет нас от необходимости {222} доказывать два первых положения. Остается третье: вопрос о «сердце». Можно согласиться с Чеховым, что кружковщина и нетерпимость свидетельствуют иногда о сухости сердца, в связи «с ясным сознанием силы», т. е. твердым убеждением в том, что у меня-де есть «вера» и обладание полнотою истины. Но можно ли сказать наоборот? Можно ли сказать, что кто все приемлет, тот обладает «большим сердцем». «Каратаевщина» только и возможна у Платона Каратаева, умственные и психологические процессы которого крайне несложны. «Индифферентизм» каратаевской «любви» сродни индифферентированности каратаевской психологии. В конце концов, это лишь блаженство нищих духом. Тонкая и сложная натура, какую представлял Чехов, разумеется, не могла ограничиться простотой каратаевской «душевности». И потому чеховское «всеприятие» является результатом общей анемичности и некоторой общей бесстрастности.
Оно так и есть. Вот черта, которая поражает вас, когда вы читаете интимные письма Чехова и интимные его наброски карандашом в записной книжке. Эту элегию души, отцветшей до расцвета, внимательный читатель легко усмотрит, конечно, в произведениях Чехова; еще явственней она проступает в его пьесах, лишенных, в сущности, борьбы страсти и даже ярких и точных желаний. Лучшая пьеса Чехова — «Дядя Ваня» — это драма недозревших до волевого акта желаний, а выстрел {223} дяди Вани тем и замечателен, тем и пленителен с художественной точки зрения, что совершенно нелеп, не соответствуя силе желания и не подвигая его ни с какой стороны. Автобиографические черточки, рассыпанные в письмах и записной книжке (записная книжка — дезабилье ума и сердца — чрезвычайно ценный материал для критики), все эти заключения не только: подтверждают, но расширяют и доводят до совершеннейшей ясности и убедительности. «Скучно на этом свете, господа». Скучно, потому что нет желаний, — есть индифферентизм; нет веры, а есть дряблость сердца. Мопассан развенчивает желания, у Чехова же невыраженные желания, студенистые желания. В одном письме к Л. Мизиновой (в этих письмах Чехов очень мило дурачится) Чехов пишет: «боюсь, что прозеваю жизнь, как прозевал вас». И точно, все желания Чехова отзываются каким-то зевком.
Когда читаешь письма Чехова, то невольно поражаешься, что, будучи очень умен и тонко наблюдателен, Чехов, сплошь и рядом, не понимал близких людей: чем дальше отстоял от него человек (следовательно, если он был для Чехова предметом объективного художественного наблюдения), тем он вернее о нем судил, а чем чаще встречался, тем хуже понимал и тем больше на его счет обманывался. Чехову было неинтересно всматриваться в тех, кто с ним был рядом. Он ко всем питал приблизительно одинаковую склонность и {224} приблизительно одинаковое равнодушие. В сущности все было все равно. Чего желать? Желать ли? Тютчевское «о как желаний много» было в высшей степени чуждо душе Чехова. Бесстрастие преждевременной изжитости глядит из всех его писем. Он неоднократно пишет — и в серьез, и в шутку — что он старый молодой человек, а иногда, что просто старый. И действительно, он стар. И манера его письма — остуженный до последней степени темперамент. Л. А. Авиловой и кому-то еще из начинающих писателей или писательниц он упорно преподает урок: «ни в каком случае не жалеть своих героев. Не будете их жалеть — читателям их будет жалко». Но что означает такой урок? Что есть описание? Процесс для читателя или процесс внутреннего освобождения от мыслей, образов, чувств и настроений. Когда вы читаете Достоевского, Толстого, даже Тургенева, вы всегда видите перед собой изливающуюся душу. Достоевский, этот крайний представитель художественного субъективизма, тоже явно портил свои произведения, ценность какой-нибудь главы резким личным — только для себя, а не для читателей — излиянием совершенно так, как какой-нибудь его капитан Лебядкин упускает нить своего рассказа и домогательства из-за басни о том, Как «таракан попал в стакан, полный мухоедства». Чехов же писал для читателя, не для себя. Если вам покажется, что это жестоко сказано, замените читателя {225} «литературой». Чехов писал не для жизни и не для себя, — он писал для литературы.
![Елена Кукина - Искусство советского периода. 1917 - 1991 годы[статья]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)