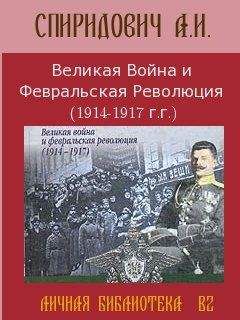А. Кугель - Профили театра
Но у Южина, у которого все — театр, Остроган, если не жизненнее, то понятнее других писателей-героев. Он говорит: «Не верьте ничему, что мы пишем. Писатель всегда лжет. Это самая кровавая жертва, которую от нас требуют и благо, и красота и… даже правда». Это не только неосторожно, с точки зрения заговора специалистов против профанов, но мне кажется даже просто «перевернутый» «уайльдизм», так сказать… Но можно ли сомневаться, что для эффектных театрально-моноложных тирад писатель Острогин — фигура весьма подходящая? Он несет амплуа драматического резонера.
Разумеется, писатель не «всегда лжет». Часто лгут, осуществляя заговор специалистов против профанов, но не всегда. Неизменно чувствуешь, будучи по крайней мере, хоть немного в курсе специальности, есть ли задушевное, властно требующее творчества у писателя или же этого задушевного, непреоборимой потребности — нет. С точки зрения литературной, можно было бы сказать, что в этом отсутствии задушевного внутреннего {211} страдания и заключается главный недостаток А. И. Южина как драматурга, и главная причина, почему он, человек с талантом и усердием, писал свои театральные пьесы, а не памятники литературного слова. Как говорил Дидро, актер сохраняет полное хладнокровие в самый горячий момент патетики. Это — театр. Актер театрально чувствует, в театральное верит и с театральным сливается до полного, можно сказать, реалистического ощущения минуты. Когда «шелестели листья», как называется одна из самых популярных пьес Южина, или сходили «серебристые туманы» — эта, на посторонний театру взгляд, бессодержательная риторика для Южина-актера, для всех актеров, игравших с ним или по его тексту, и для всей публики, подчиненной гипнозу театра, была истинной неоспоримостью, подлинностью — подлинностью сказочного, иллюзорного мира, что зовется театром.
У Южина-актера была своя любимая роль, или лучше сказать, у него было любимое амплуа — фатов-резонеров. И потому, по закону отражения, его как драматурга смущал, так сказать, свой «демон», обольщавший его воображение недостижимою прелестью романтических контрастов. Это театральная маска человека, который одновременно и «пленир», и коварный и злой мучитель. Это впадающие в сантиментальность, обольстительные тигрицы, в роде героини «Дочери века». Это всего {212} чаще загадочно-обаятельные спекулянты, игроки, аферисты, жулики, в душах которых, однако, иногда расцветают пышные орхидеи благородных порывов. Это — Пропорьев из «Мужа знаменитости», Пропорьев из «Цепей», Кастулл из «Заката» и пр. Неотразимый блеск бездушной силы, красота самоуверенности и апломба. В этих полужуликах Южин ищет сосредоточенной воли, побеждающей гамлетизированную рыхлость. Ему живо рисуется этот человек, понятно, в сценическом изображении. Вот он стоит в пол-оборота к партнеру и одна половина лица сурова, как камень, а другая светится высшим торжеством. В галстухе «искры наваринского дыма» — крупная жемчужина… Да, жемчужина… Трость… Легкие ботинки, кусочек пестрого носка… Веки сильно подведены, и на ресницах тяжелые кусочки туши… И он говорит… Что он говорит? Он говорит:
— Это не руки, а цепи… (Сквозь зубы — «тсепи»), кандалы железные… (Потрясает руками, как при молотьбе).
О, сколько актеров ждало этой фразы, как праздника благовещения! Сколько аплодисментов было сорвано! Сколько счастливых минут возбужденной чувствительности переживала публика! Вы хотите проанализировать этот монолог, и почему так торчит булавка в галстухе? Конечно, это можно. Но зачем? Не трогайте прекраснейшего {213} мира театральной иллюзии. Он может рассыпаться…
Их было двое — будущих славных деятелей театра — Южин и Вл. И. Немирович-Данченко, оба тифлисские гимназисты. Но посвятив себя одинаково театру, они были и остались разными. Вл. И. Немирович-Данченко — это анализ, рассудочность, спокойствие, план. Южин — это увлечение, романтика, мелодрама, контраст, декорация. Кавказ скользнул по Вл. И. Немировичу-Данченко, но наложил на Южина неизгладимую, как кавказская природа, печать. Южин был широк, великолепен, орнаментален, пожалуй, несколько пышен в восточном смысле слова. В нем было много, очень много Кавказа — рыцарства и добродушия, богатырства и хитроватой сметки, приветливости, «куначества» и сознания достоинства. Яркость и цветистость красок, резкость контрастов — такова главная черта его произведений. Он всегда был мелодраматичен, как и Кавказ — эта географическая, этнографическая, художественная мелодрама. Провалы и обвалы, седые горы, покрытые снегом, и виноградники по склонам; жаркие дни, холодные ночи; ослепительное солнце, играющее на снежных вершинах, и низкие облака, плывущие под ними; стремнины и горные ущелья, и рядом мирные пастбища во вкусе Рюйсдаля, — разве все это не напоминает романтику театральных декораций? Здесь — месторождение русского романтизма. Здесь задуманы Печорин {214} и Аммалат-бек. Сюда высылались «горячие головы» и здесь они еще более разогревались. Кавказ был необходимым, я готов сказать, «неизбежным» придатком николаевской казармы; какой-то отблеск поэзии на вытянутой аракчеевской шагистикой серой, мутной, тошной николаевской России. Здесь, на Кавказе, зрел пафос, или, если угодно, зрела видимость пафоса, к которой стремилась мечтательная русская равнина.
Южин до конца дней был рыцарем Кавказа. Его две лучшие пьесы (если не считать «Джентльмена») — «Измена» и «Старый закал» — это легенды Кавказа; одна полуисторическая легенда времен борьбы Грузии с исламом; другая — легенда об ермоловских «орлах». В «Измене» — что бы ни говорил писатель Острогин — громадная искренность. Южин верит в царицу Зейнаб, в злых евнухов, в подвиги высочайшего, как вершина Эльбруса, благородства. Он чувствует кухню азиатской дипломатии, хитросплетения и козни, коварство и интриги Востока. И сила его веры такова, что «Измена» воспринимается публикой не только доверчиво, а безотчетно. В «Старом закале» — то же. Предания о кавказских «героях» принимаются целиком без малейшей доли скептицизма. Это была «ностальгия» его духа — Кавказ. Он пишет в предисловии к «Измене», что пытался изобразить «прошлое Грузии — тот общий яркий колорит отдельных лиц, народных нравов и окраски исторических событий, {215} который свойствен югу». Ему не надо было для этого делать усилий над собой. Однажды я у него обедал и он угощал меня кавказским супом, в который кладется сыр, и «чуреками», о которые я обломал себе зубы. На лице у Южина было блаженное выражение и глаза источали мягкий свет. Суп с сыром — чем не мелодрама, подумайте?
В Москве А. И. Южин занял очень скоро выдающееся положение — не только потому, что он был красивый, рослый, яркий человек с отличным голосом и большой горячностью — со всеми свойствами театральной организации, но и потому также, что был образованный культурный актер, а тогда это было еще большой редкостью. Он примкнул в Малом театре к той группе (никогда в этом театре, впрочем, не переводившейся), которая вела борьбу за классический репертуар. Его не удовлетворяла и не могла удовлетворить обыденность жизни и искусства. Он стремился играть и играл роли романтические — Шиллера, Гете, Шекспира, Гюго. И последнего, быть может, в тайне души он предпочитал всем. У меня в памяти от далекого времени осталось его игра в роли Рюи-Блаза (Гюго). Кажется, это было в пригородном петербургском летнем театре — «Озерки». Кругом театра были пруды и озера, в которых купалась дачная молодежь. Но и он купался в роли — единственной роли, даже у Гюго, по нагромождению романтических эффектов и, между нами говоря, несообразностей. {216} Лакей, который становится любовником королевы и первым министром. И потом, опять лакей, гордый и высокомерный, унижающий королеву высокими сознанием своего лакейского ничтожества. Шутка! Южин был великолепен в этой роли, лакей-владыка, владыка-лакей, снежная шляпа Эльбруса и мирный аул у его подножья. Когда не было ролей романтических в собственном смысле слова, он творил романтику, по мере сил, в пьесах реального характера. Он искал своего Пропорьева, своего «демона» даже в Островском, даже в «Волках и овцах», в которых играл Беркутова. Из двух концепций мира — «быть» и «казаться» — он всеми явными и тайными стремлениями своей натуры принадлежал ко второй, ибо актер должен «казаться». На то он актер. И Южин казался высокого роста, будучи человеком средней фигуры. Этот оптический эффект меня всегда поражал. Вернее меня поражал рост Южина в жизни, потому, что на сцене он был, когда нужно — а нужно было очень часто — крупен, высок и массивен.
Он, сколько я помню, кипел избытком сил. Часто, когда некуда было их девать, впадал в игрецкий транс. К весне, бывало — конечно, в давние годы — он начинал тосковать. Потом уезжал в Монте-Карло и после недели-другой игрецкой лихорадки возвращался облегчив тоску я, разумеется, карман.
![Елена Кукина - Искусство советского периода. 1917 - 1991 годы[статья]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)