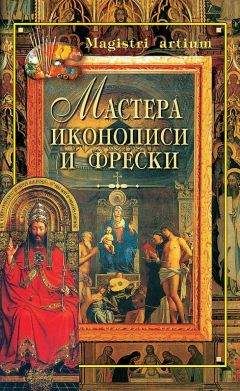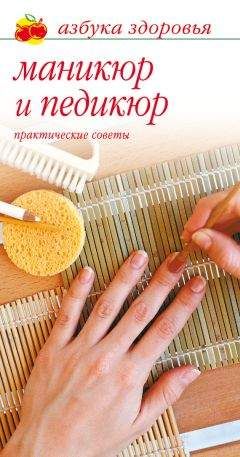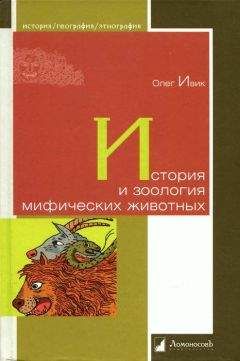Майя Туровская - Бабанова. Легенда и биография
{130} Действительно, на фотографии виден и парик и дурно сшитый костюм — все, что на сцене скрашивалось игрой актрисы. И лишь рука Фаворского сохранила идеальный облик Гоги, каким он представлялся из зрительного зала.
Гога появлялся в квартире своего отца, профессора Гранатова, под руку с матерью — Ксении, как немного покровительственно и ребячески-нежно называл он ее. Оба они — Ксения Тревэрн, крупная, породистая, но какая-то обмякшая в своем ненужно-элегантном парижском туалете, и мальчик во взрослом костюме-тройке со стеком под мышкой — казались удивительно неуместны здесь, где их не ждали и не хотели.
Бабанова не видела тогда Парижа, не знавала и эмигрантов, но была безошибочная угаданность в респектабельном, затянутом внешнем облике ее Гоги — «в Париже нельзя иначе», — во взрослой церемонной сдержанности манер и прячущейся за ними пугливой настороженности.
Потом, гораздо позже, мы узнаем из опубликованных эмигрантских писем и воспоминаний и эту опасливую гордость бедности, привыкшую делать хорошую мину даже при самой плохой игре, и внутреннюю готовность к самообороне, и видимую легкость, почти цинизм тона («он стал немного gamin», — скажет о Гоге мать), за которой повышенная чуткость к унижениям, и взгляд с изнанки на «заграничную жизнь», немилостивую к бывшим ее баловням.
Все это было — откуда только взялось у тогдашней «активистки» Бабановой? — в безукоризненном парижском выговоре и чуть-чуть слишком отчетливом, старательном русском ее Гоги, в его напряженном высокомерии с отцом и в покровительственной резкости с матерью. За резкостью был болезненный надлом души, раненной жестокостью мира.
Привыкший к крохам, Гога знал цену деньгам, знал, как они нужны, но знал и жалкую унизительность подачки. Он вообще слишком много знал о жизни, этот маленький полугамен-полуджентльмен, хранивший в своем тонком профиле, во врожденном изяществе движений наследственную память привилегий, а в некоторой подчеркнутой церемонной светскости манер, отстраняющей фамильярность, — живую память многих оскорблений и бед.
Таких мальчиков, как Гога, не было до этого на русской сцене, не будет и после, и актриса, не имевшая случая «изучить жизнь», шла, следовательно, тропинкой интуиции. Тонким и острым чутьем художника, женским сердцем она расшифровала то, что было безошибочно намечено пунктиром авторских слов.
Она отдала Гоге свой испуг, недоумение, потрясение. Свое сознание отторгнутости, сиротства, которое пряталось под скорлупой безлично официальных и жалобно повторных формул, какими она извещала о своем уходе от Мейерхольда («Уважаемый редактор! Не откажите сообщить через вашу газету…», «Не откажите в любезности сообщить в редактируемом вами журнале…»). Ежеминутная работа души, стремящейся удержать дистанцию между собой и жизнью, была вложена в маленького Гогу.
Артистическое существо Бабановой, вовсе не склонное исповеднически распахиваться на сцене, напротив, нуждающееся в чужом образе, во внешней форме, было менее всего готово к выплеску в роли собственных, личных переживаний. И все же бывали в ее жизни мгновения, когда она становилась «лирической» в том высоком смысле, в каком слово это прилагают к поэзии.
Мальчик Гога стал «лирической» ролью Бабановой. Может быть, самой лирической и самой личной.
{131} Не только несчастная биография одного этого мальчика, еще не знающего, что единственная ненадежная опора — Ксении — рухнула, что мать не захотела жить и больше некому дать ему каплю любви и защиты, — но все сиротство оторванного от корней и брошенного в равнодушный мир детства, все явление вынужденной эмиграции просматривались сквозь немногие осторожные фразы мальчика Гоги. Пружины и колесики маленького душевного механизма были отчетливо видимы, как в английских каретных часах со стеклянными стенками. Но было видимо и стекло: безукоризненная форма роли. В спектакле Театра Революции сын оказался главным «свидетелем обвинения» против Дмитрия Гранатова, «человека с портфелем».
На самом деле Гранатовым в спектакле владел такой же страх, как Гогой. Карьера была способом оборонить жизнь; быть сильным казалось надежнее, чем быть слабым. Демагогия становилась самым верным оружием в борьбе за существование. Вот что лихорадочно, насильно пытался он вбить в голову сыну. История сделает видимым смысл фигуры Гранатова. Но Гога не понимал ничего. Он рвался из рук отца, а услышав, что мать умерла, кошачьим прыжком взвивался на грудь Гранатову, забыв страх, впервые перейдя с отчужденного «вы» не на родственное — на кулачное «ты»: «Ты лжешь!»
Это была та самая мизансцена, стихийно родившаяся на репетиции и закрепленная в спектакле.
Бездна ужаса крылась для Гоги за словами отца, и заглянуть в эту бездну не было сил у его изнемогшей души. Он падал в обморок.
Мужская истерика, с одной стороны, и детская попытка сохранить джентльменскую невозмутимость, обрывавшаяся в беспросветный ужас, — с другой, составляли драматический нерв этой главной сцены спектакля, где вынужденная агрессивность Гранатова была почти так же беспомощна и обречена, как светская поза мальчика.
… А потом, бросив все, Гранатов уезжал на заседание, где ему предстояло в свою очередь рассчитаться с жизнью, которая оказалась сильнее его. И Гога, еще не понимая, не желая понять, что он стал круглым сиротой, оставался с Зиной Башкировой. Мальчик есть мальчик, и он старался вернуть себе нечто {132} вроде надежды нехитрым детским способом, торопясь углубиться в спасительную житейскую область и на мгновение становясь практичным гаменом:
— А с Ксении мы проживем… Я видел, как мальчики на улицах продают «Вечернюю Москву». Ведь они недурно зарабатывают, не правда ли? Или папиросы… Des cigarettes — n’est-ce pas? — эта беспомощная детская практичность и светский тон, срывающийся в жалобу, были безнадежнее слез.
И почти уверившись, что надо только поскорее уйти, отправиться на поиски Ксении, Гога смотрел на Зину этакой парижской шельмой:
— О мадемуазель…
И старательно выговаривал незнакомые слова:
— О дорогой товарищ!
Реплика эта всегда покрывалась бурей аплодисментов.
— Эх мальчишка, бедный ты мой француз, — говорит Зина.
Бедный, бедный Гога, скажем и мы пятьдесят лет спустя из отдаления истории и опыта…
Спектакль был сыгран 14 февраля 1928 года и встречен таким же дружным признанием публики, как и упреками критики. Упреки относились ко всем, кроме актеров. К автору. К художнику Н. П. Акимову, оформившему спектакль в духе модной тогда «кинофикации». Отчасти к режиссеру. Актерское исполнение одобряли все. Лавры, у Мейерхольда всегда достававшиеся ему одному, на сей раз дружно были присуждены актерам. Если в чем сказалось очевидное влияние мхатовской школы, то именно в этом: спектакль был бесспорно актерский, первоклассно актерский, и в актерском этом спектакле пальма первенства принадлежала мальчику Гоге.
О. И. Пыжова, пришедшая из МХАТа Второго, прекрасно сыграла Ксению Тревэрн. Д. Н. Орлов — одного из своих смешных мерзавцев, Редуткина, может быть, не столь бесспорно, но ярко. Баланс «школ» был соблюден.
Сценичность пьесы Файко (кто-то в рецензии недаром назвал его, не без осудительного оттенка впрочем, драматургическим «спецом»), человеческие судьбы и драмы, заключенные в доходчивую форму мелодрамы, актерские удачи надолго сделали «Человека с портфелем» одним из самых «кассовых» спектаклей Театра Революции. Менее чем за год (а в году, как известно, 365 дней) он выдержал двести представлений.
Летом его повезли на гастроли, а 22 октября в Москве можно было увидеть такую удивительную картину: в сумерках от Пресни к Никитским воротам двигалась по мостовой полуторатысячная колонна текстильщиков. Впереди, как на демонстрации, несли знамена, гремел духовой оркестр. За ним маршировали строем пионеры. «Трехгорная мануфактура» шла на «смычку» со своим шефом — Театром Революции. Шефство тогда понимали обоюдно, и на последовавшем торжестве обмена речами «Трехгорка» обязалась «вести наблюдение за четкостью классовой линии в работе театра»[117]. Театр со своей стороны не только устроил выставку в фойе, но и распахнул перед подшефными свою кухню: занавес не закрывался и перестановки делались прямо на глазах у публики. Давали «Человека с портфелем». И текстильщицы «Трехгорки», потеряв классовую бдительность, рыдали над судьбой «бедного француза» Гоги: спектакль имел «огромный успех у рабочей молодежи»[118]. И Марию Ивановну Бабанову, исполнительницу Гоги, избрали почетным пионером. Газеты напечатали фотографию: юный пионер Сахаров в подпоясанной ремешком белой рубахе повязывает Бабановой галстук.
{133} А в Ленинграде Адриан Пиотровский, представитель художественной элиты, писал о Гоге как о совершенно исключительном создании актерского мастерства: «Великолепно искусство, с которым актриса в последовательной смене тонких и выразительных черт строит целостную линию роли от подчеркнутой манерности первого появления, через злобную решительность затравленного волчонка, приводящую к взрыву нежности и великой детской тоски в незабываемом последнем эпизоде»[119].