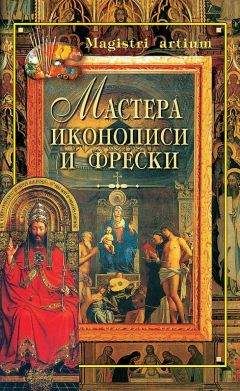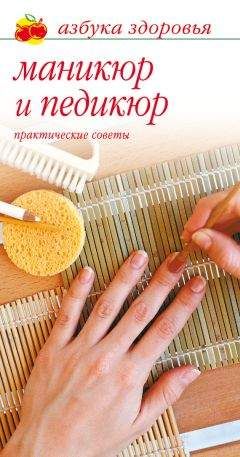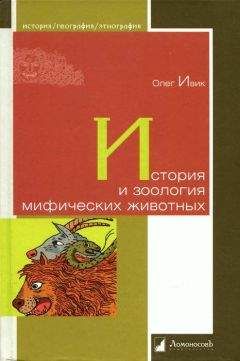Майя Туровская - Бабанова. Легенда и биография
Оба выступления носили программный характер и могли бы отметить собою важную веху: если не отступление «формализма» по всему фронту, то, как минимум, временное равновесие мейерхольдовской и мхатовской школ. Историку театра остается признать оба взгляда на случившееся равноправными.
Но человеку, идущему по следам прошлого, кажется, что не только борьба театральных течений выплеснулась в этом инциденте. Что принадлежит он столько же истории театра, сколько скрытой истории человеческой души. И вероятнее всего, открытие «силы эмоций» было фактом не только сценической истории «Человека с портфелем», но и жизненной истории самой Марии Ивановны Бабановой.
В архиве Бабановой хранится вырезанная из газеты заметка «Театр Мейерхольда возобновляет “Великодушного рогоносца”».
{127} Как бы в ответ и в пику Театру Революции, встретившему приход Бабановой возобновлением двух его постановок — «Доходное место» и «Озеро Люль», — сам Мастер поделился с корреспондентом соображениями о пьесе Кроммелинка, которую в 1922 году в соответствии с задачами времени он трактовал как фарс, в то время как теперь театр созрел до идеи трагифарса. Он также слегка пооткровенничал насчет только что ушедшей от него артистки: «В первой редакции (1922 г.) режиссеру пришлось мириться с тем, что исполнительница роли Стеллы (Бабанова) не могла, в силу своих сценических данных, в ходе действия переключать свою игру с плана веселой комедии на план высокой трагедии. В первом варианте, — сказал он, — роль Стеллы, в сущности, была только опорой для роли Брюно, не имела ярко выраженной самостоятельной характеристики».
Дальше шло о «вопросах пола» и «нового быта» и о том, что в новой постановке роль Стеллы будет играть Зинаида Райх[112].
Но это Мусю Бабанову уже не интересовало. Она сделала то, что в бессильной ярости мог бы сделать разве что мальчик Гога, — тонким пером, тушью исполосовала то, что сказал Мастер, безжалостно вымарывавший самую память о ней из своего творчества и театра.
Но это было только началом обрушившихся на нее испытаний.
Когда-то — как раз во времена «Рогоносца» — парадоксалист Виктор Шкловский в открытом письме к Роману Якобсону объяснил этот народившийся пафос публичности и всенародного выяснения отношений тем, что «жизнь уплотнена». «Если бы я захотел написать любовное письмо, то должен был бы сперва продать его издателю и взять аванс. Если я пойду на свидание, то должен буду захватить с собой трубу от печки, чтобы занести по дороге»[113]. Теперь, пожалуй, на свидание можно было бы захватить и что-нибудь менее громоздкое, хотя до простого букета цветов было еще далеко. Но есть своя закономерность в том, что в биографии Бабановой, взбежавшей на подмостки под знаком «Рогоносца», публичности суждено будет играть такую непомерную роль.
Не успел Мейерхольд дать свое интервью, как последовало письмо, «по дороге проданное издателю» газеты «Вечерняя Москва» (подпись — «Швандя»):
«Ну хорошо:
От вас ушла Бабанова
И “Рогоносца” ставите вы заново,
Но обижать Бабанову зачем?
Закон гармонии не должен быть нарушен,
Ведь “Рогоносец” был великодушен,
А режиссер — как будто… не совсем»[114].
Между тем, разыграв «Рогоносца» с Райх вместо всем еще живо памятной в роли Стеллы Бабановой, Мейерхольд открыл свою ахиллесову пяту. Старому противнику, критику Тальникову, было тем легче, что неудача возобновления была на самом деле даже не дискуссионна. Он указывал на то, что сама идея возобновления — сомнительна, ибо пять лет назад секрет «Рогоносца» был в его «созвучности» эпохе: «это было весеннее прокламирование новых идей»[115].
«Созвучность» спектакль потерял, а раритетом, антикварной ценностью еще не стал — добавим мы от себя из отдаления полувека, листая страницы отгремевших полемик. Да и не до раритетов было в это еще очень молодое время.
{128} И этого было бы достаточно, чтобы диагностировать ошибку и перейти к очередным делам. Но в полемиках тех лет, заменивших любовные письма и дуэли, не щадили не только самолюбий, но и сердец.
«Другая причина успеха этого спектакля даже и в среде зрителей, не сочувствовавших экспериментам Мейерхольда, заключалась в его чисто театральной, актерской значительности.
… Без Стеллы нельзя точно восстановить “Рогоносца”, — это ясно. Из двух главных партнеров пьесы выбыла партнерша, из тонко-музыкального дуэта выбыла женская партия, и Ильинский потерял свой тон: он бросает звук в пустое место и, не находя резонанса, теряет его».
И далее Тальников точно так же переходил на личность Зинаиды Райх, как только что Мейерхольд походя растоптал Бабанову. Он писал, что роль Стеллы не в данных Райх, что она тяжеловесно движется и вяло подает реплики и что Анна Андреевна Сквозник-Дмухановская взялась играть искрометный французский фарс…
Естественно, за шпильками в адрес Райх следовала элегия памяти Бабановой. «Невольно на память приходит прежняя замечательная Стелла — Бабанова, ритмическая, легкая, молодая, игравшая в быстром темпе фарса идиллию наивной, трогательной влюбленности с безумным провалом в душевную трагедию». Настоящее бросало тень на прошлое, и слова критика могли быть отнесены не только к сцене, но и к жизни. «Потеря Бабановой для театра совершенно незаменимая потеря: зритель ясно увидел это в “Рычи, Китай!”, где лучший момент всего спектакля (Бабанова) исчез, увидел в “Ревизоре”, где отсутствие превосходной Марьи Антоновны сразу выбивает одну из немногих лучших партий спектакля, не блещущего актерскими силами. И еще резче увидали мы это сейчас в “Рогоносце”»[116].
Журнальная полемика длилась еще — мучительно для обеих сторон. Мейерхольд не удержался от собственноручного письма в редакцию. Читать это письмо жалко и стыдно. Так иногда великая страсть делает смешным великого человека.
В этих запоздало вскипевших вокруг ухода Бабановой страстях любая из сторон вольна была считать себя победительницей — и для всех это была пиррова победа. Терялось достоинство, унижались самолюбия, даже самая неоспоримая истина являлась в одеждах демагогии. Все было очевидно и безнадежно.
Далеко на заднем плане журнальных полемик страдала молча невольная их виновница, а между тем делала то, что всегда: каждое утро бежала в театр, на репетицию к Дикому. В сущности, все ее недоразумения с Диким сводились к тому, что он не Мейерхольд.
Да позволено мне будет предположить, что в маленького Гогу было вложено нечто гораздо большее, чем сиюминутное состояние «бессильной злобы, протеста и слез» от разлада с Диким. Большее даже, чем пробудившийся интерес к «системе» МХАТ. Что потрясение от разрыва с Мейерхольдом открыло какие-то эмоциональные шлюзы души, склонной к самообузданию.
Это только что стрясшееся и никогда уже не изжитое стало человеческим, интимным фоном душевной драмы мальчика, выраженной, как всегда, в чистой и точной сценической форме, но с неслучавшейся прежде «силой эмоций».
Все идет в дело в душевном хозяйстве художника, и в решающую минуту подсознание вынесло на поверхность только что испытанную боль. Психоаналитики {129} могли бы указать на Гогу как на сценическую реализацию «отцовского комплекса».
Так случилось, что, сам того не ведая, Мейерхольд еще раз помог своей ученице. Роль Гоги показала, что Бабанова может быть велика и сама по себе, без Мастера.
Как всегда, когда образ выходит далеко за масштабы спектакля, появляются апокрифы. Многим казалось, что они «видели» показ Мейерхольда на репетиции «Рычи, Китай!». Так же точно вспоминает Пыжова, как Дикий «подсказал» Бабановой прыжок с кресла на грудь Гранатову — ту «форму», в которую неожиданно для нее самой вылилось состояние «бессильной злобы, протеста и слез». Она же подробно описывает, как Дикий повез актрису к лучшему мужскому портному и сам заказал для Гоги костюм.
Из бесед с М. И. Бабановой
«Что Дикий действительно мне подсказал — это играть не ребенка, а мужчину. Это он мне много раз говорил: “Играйте мужчину, взрослого”. Он вообще-то был очень талантлив — позже я об этом задумалась. “Блоха” — блестящий спектакль… Как-то много лет спустя мы встретились на радио — он был уже тяжело болен, ему трудно было встать со стула, — и я вдруг пожалела, что так мало с ним работала.
Но насчет костюма — чепуха. Парик был отвратительный, я все время другой просила сделать, более естественный, и костюм скверно сшит театральным портным — театр бедный был. Он вечно жал мне в подмышках, двигаться неудобно было — какой там лучший портной!»
{130} Действительно, на фотографии виден и парик и дурно сшитый костюм — все, что на сцене скрашивалось игрой актрисы. И лишь рука Фаворского сохранила идеальный облик Гоги, каким он представлялся из зрительного зала.