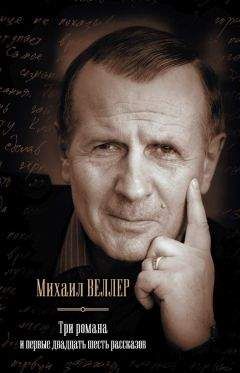Михаил Левитин - Таиров
И в то время как Таиров репетировал Калидасу, русские войска уже потерпели поражение в Танненбергском сражении, и генерал Переменка в гневе на своих офицеров бросил на произвол судьбы армию, а генерал Самсонов то ли застрелился, то ли умер от разрыва сердца в Мазурском лесу.
Можно представить себе, сколько говорилось об этом в коридорах Камерного и как говорилось!
А потом все шли репетировать индусскую драму, которая уж совсем ни при чем, и Александр Яковлевич цитировал, какими качествами должен обладать актер индийского театра: «Свежесть, красота, приятное и широкое лицо, красные губы, красивые зубы; шея круглая, как браслет, красивые по форме руки, изящный рост, могучие бедра, обаяние, грация, благородство, гордость, не говоря уже о качестве таланта».
У них достраивался театр, шла война, деньги получали крошечные — не до Калидасы. А он так говорил, будто ничего, кроме индусского театра, и не было на свете.
Пьесу Бальмонт перевел и сидел на репетиции счастливый, маленький, рыжий.
— Ваш Таиров — гений, — говорил он Коонен. — Именно сейчас, когда вокруг столько крови и разговоров о ней, нужна чудесная сказка.
* * *«Сакунтала» — не сказка, просто оазис в пустыне театра, очень наивно воплощенный, с лирическими задниками Павла Кузнецова, такими нежными, будто к ним не прикасалась кисть, с лошадьми, стоящими дыбом у порталов, с фиговыми листочками костюмов, обнаженное тело актера, слегка раскрашенное, само становилось костюмом. Почти нищенский спектакль по отсутствию атрибутов, но какой-то радостно-нищенский.
Только актеры, — говорил Таиров. — Только вы, ничего больше.
И черкал, черкал текст «Сакунталы», отчего Бальмонт приходил в ярость, а потом соглашался.
Здесь Таиров сформулировал одно из самых важных для себя соображений, что Калидаса и вообще многие великие поэты писали только стихи. Всё, что между стихами, — а это очень большие периоды, — есть актерская импровизация. Поэт для стихов, актеры для действия. Основное время в спектакле было отдано пантомиме, которую он обожал и начал разрабатывать еще в «Пьеретта». Коонен-Сакунтала с кувшином, Коонен-Сакунтала, отгоняющая пчелу, и вообще Коонен-Сакунтала с обнаженными руками в простеньком платье послушницы.
Возможно, он хотел, чтобы спектакль успокаивал, как полет бабочки, дразня узором кузнецовских декораций; стихи требовали приподнятости тоже, и все читали их немного под Бальмонта, а тот всё делал возвышенно.
И вообще это была не стилизация под индусский театр, а какое-то полученное из древности впечатление о их собственном искусстве, достаточно было склонить немного голову, расставить ладони, пройти особым «лесным шагом» из глубины к авансцене, петляя, как возникала обволакивающая тишина мистерии, присутствие театра.
Таиров повторял, повторял: театрализация театра, театрализация театра, и не так уж не правы те, кто говорил, что не человека он ищет в актере, а актера в человеке.
Но и это была неполная правда, он искал одухотворенного актера, а добиться одухотворенности восточного театра у людей, только что оставивших пальто в гардеробе и не успевших досказать свежий анекдот, очень сложно.
Тут нужна была компания безумцев, и они постепенно обнаруживались — Фердинандов, Аркадин, Эггерт, Алиса.
Каждый из них мог считать себя театром, возможности каждого были рассчитаны на десятилетия, а мысли Таирова были очень просты и понятны, просто раньше они никому не приходили в голову. Надо было просто научиться играть никому не нужное, кроме тебя, Таирова и Калидасы. И очень трудно представить что-нибудь менее относящееся к России и войне, что-нибудь нелепей этого возникшего посреди Москвы в 1914 году спектакля.
Они выходили из театра на улицу, как из-под гипноза, и долго не могли разглядеть осеннюю хмурь, очереди в лавках, раздражение на лицах прохожих, не могли сориентироваться, в какую сторону идти. Ну и заморочил же их Таиров!
Засела в душе эта странная история о царе Душианте, не узнавшем в Сакунтале своей возлюбленной и только с помощью небес осознавшего свою ошибку.
А там, на польской границе, выясняли между собой отношения австрийские, германские, русские войска, гибли в болотах, попадали в окружение, и никто из них, кроме призванных в армию из труппы Камерного театра, не задумывался о страданиях Сакунталы, отдавшей свою жизнь царю Душианте.
— Только так, — говорил Таиров. — Только так. Обыватель ждет нашей причастности к этой нелепой войне, предположений, прогнозов, патриотизма, он готов театр превратить в газету. Пусть сияет над миром Сакунтала вопреки желаниям обывателя. Где еще быть раю, как не в театре? Пусть приходят в театр как в рай.
Он оказался прав, «Сакунтала» удалась, Камерный театр открылся.
Ольга Яковлевна, держа за руку Мурочку, глядя спектакль с последних рядов, думала о своем Саше: «Теперь он уже не уйдет из театра, никогда, никогда. Как можно уйти от этой декорации, от этой красоты, от Сакунталы».
Собственно, речь идет о том, как Таирову повезло быть понятым этой женщиной, то ли сестрой, то ли женой, родившей ему дочь и, несмотря на это, согласившейся отпустить к другой.
Речь о том, что этой другой была Коонен. Жить Таирову без нее только из чувства порядочности было бы нелепо, все равно, что жить без театра, и теперь Ольга Яковлевна могла быть абсолютно спокойна — Коонен не отпустит его из театра.
И когда он стал просить Ольгу Яковлевну тоже никуда не уходить, оставаться рядом, иначе у него разорвется душа, она ответила спокойно: «Конечно, мы никуда и не собираемся, если, конечно, для меня найдется место в Камерном. Девочке важно тебя не потерять, а ты будь с Алисой. С кем тебе еще быть?»
Все как-то само собой получилось, он оставил им квартиру, а сам переехал к Алисе и после небольшого замешательства ее семьи сумел очаровать их настолько, что теперь они без него не обходились.
Так началась эта жизнь друг с другом, вполне реальная, — с пробуждениями, чаепитиями, покупками, домашними разговорами, такая же, как у всех, но совсем-совсем другая.
Вот, говорят, что, переехав жить в театр немного позже, они репетировали по ночам. Да, это правда — любовь Таирова к ночным репетициям началась именно с этих внезапных репетиций для Коонен, когда оба, нарепетировавшись за день, не могли заснуть и, живя над сценой, спускались по лестнице вниз, чтобы наедине попробовать новое.
Злые языки говорили, что Коонен играет лучше всех, потому что он с ней репетирует даже по ночам, но это были злые языки, не знакомые с ночным вдохновением влюбленных, с этими именно такими ночными объяснениями в любви, выраженное в уточнении мизансцены, жеста, слова. Возможно, это были единственные в своем роде объяснения, когда ночь, театр и оба совершенно свободны.
И совсем неизвестно, кто кому что объяснял, чей голос звучал убедительнее и громче, здесь Коонен позволяла себе импровизировать, а он — смотреть на нее, прищурясь, и думать: «Какое чудо, Господи, ну до чего же я везучий человек!»
С ним был его театр, в ней был его театр, для нее и только для нее существовал его театр — Камерный. И не стоит обижаться: «Конечно, вы с ней столько работаете, уделяли бы вы нам столько внимания!» Он всем уделял много внимания, он вообще был теплый и внимательный человек, но ее он просто любил, просто, ну знаете, это когда бы ни увидел, не может глаз отвесть. Встреча, что тут говорить, — такая встреча.
* * *Если с Коонен Таирову повезло, то с доброжелателями не меньше. К театру относились сочувственно. Он вообще не любил ссориться. Старался никого из коллег не задевать. Назвал театр Камерным, тем самым определив свое место на театральной карте. Он был не то чтобы несмел — осторожен. Теперь он отвечал за свои поступки перед большой компанией, не стоило дразнить зверя, да и кем стал этот зверь в годы войны? Все как-то разбрелись. Станиславский выяснял отношения с Немировичем, Мейерхольд унавоживал грядки александринской сцены, Евреинов воспевал самого себя.
Война растянула время, какая-то бесконечная зевота, не было сил даже посочувствовать тем, кого убивали на этой войне. Все в оцепенении стояли и ждали, чем все закончится. Солдаты привыкали к грязи, крови, к легкости смерти, своей и чужой, спекулянты шалели от прибыли за счет военных поставок, интеллигенты с замиранием сердца предчувствовали страшную развязку, и никто, кроме бесплодно бушевавшей на своих заседаниях Государственной думы, не предлагал никаких решений.
После первой проигранной войны с японцами — первая революция, чуть не победившая. Что будет после второй? То, что это кончится некрасиво, как всегда в России, было понятно многим. Возникла привычка к поражению. Вообще война входила в привычку. «Лучше бы она длилась, — думали многие. — Как-то спокойней».
![Лидия Кудрявцева - Этот ребенок - я сам[статья]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)