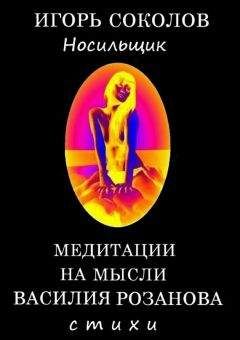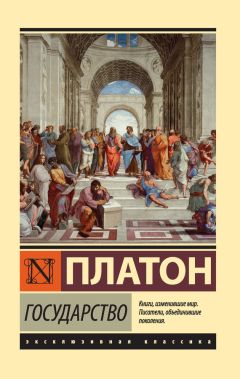Павел Руднев - Театральные взгляды Василия Розанова
В основе этих утопических нововведений — тоска Розанова по ритуалу, острое желание писателя окольцевать и даже сковать человеческую жизнь серией религиозных обрядов — взамен того, как сковали ее государственные законы и гражданские обязательства. Ритуальную функцию церкви Розанов ценил, кажется, выше благовестнической и моралистической — церковь через «воспоминательные события»{270} (т. е. через годичные праздничные циклы, двунадесятые праздники) дает человеку ритм жизни, ясное понимание гармонии, упорядоченности бытия. Таким образом, проблема усложняется: государственный брак подмял под себя ритм семейной жизни, ярко осветив торжество бракосочетания, но затемнив (даже для «очей» Церкви) всю остальную жизнь в браке. В этой розановской жажде повседневных ритуалов кроются и филосемитские настроения Василия Розанова: иудаизм — единственная монотеистическая конфессия, сохранившая до сих пор высокую обрядовую культуру (прежде всего, «субботу» — праздник сакрального совокупления, по Розанову). Но здесь же кроются причины и пресловутого розановского антисемитизма: евреи, ассимилирующиеся в русской и европейской цивилизации, теряют свою культуру, и нужно очень спешить, чтобы успеть унаследовать у евреев древние, еще древнеегипетские, законы. Розанов требует возвращения культа, ритуала в саму жизнь — и тем самым идет против всего течения русской литературы[24].
Слишком конкретная идея внести брачный чертог, супружеское ложе и детские ясли в церковные стены не была поддержана Религиозно-философским обществом, которое мыслило о Поле только терминологически, весьма абстрактно. Розанова, обогащенного семейной теорией и семейной практикой, не понимали Мережковский и иные современники, уже постигшие сладость свободной любви. «Брак есть одна из форм полового общения»{271}, — утверждает Мережковский в полемической статье «Новый Вавилон» (в следующей за «Новым Вавилоном» статье «Влюбленность» — в журнале «Новый путь» — Зинаида Гиппиус поддерживает именно этот тезис супруга). Мережковский искренне удивляется тому, почему Розанов все время соединяет брак и пол в неразрывную связь. Половая тема Мережковского входит в круг революционных, политических и эстетических идей эпохи; его Пол — это, если угодно, сексуальная культура модерна, подразумевающая и «свободный брак», и сексуальные предпочтения «мироискусников», и оргии в Башне Вячеслава Иванова. Розановский же поворот «семейного вопроса» позволяет Лоре Энгельштейн справедливо назвать его эротизм «патриархальным». Сексуальная свобода арцыбашевского Санина (тоже любовь кентавра, но уже близкого к конюшне) не имеет ничего общего с Полом Василия Розанова, доведшего Семью до Бога, до Святая Святых религии. Андрей Синявский замечает, что «его эротические образы лишены <…> эротической окраски. Розанов нарушает запрет, но чисто стилистически, словесно, а не нравственно»{272}. Попробуем уточнить эту мысль: эротическая страсть у Розанова направлена не к наслаждению, а к деторождению и только к деторождению, к продолжению рода, к «населению» земли плодами любви; его эротизм — не сексуальный, а инстинктивный. И вместе с тем можно смело говорить о том, что розановский инстинкт деторождения — есть преображенное «оргиастическое начало» модернистов.
Когда Василий Розанов в «Последних листьях 1916 года» утверждает, что «мир, история, сама даже вселенная — вечное „блядство“», — он делает, конечно, гениальную ошибку: «Беременейте. Не стесняйтесь имени проституток. Кокетничайте, завлекайте. Зовите, зовите мужчин <…>Вы спасете род человеческий, если станете проститутками»{273}. Увидеть в проституции инстинкт деторождения, способность и желание к продолжению рода мог только безумный, часто безнадежно слепой мыслитель Василий Розанов.
Вокруг Льва Толстого
Весьма странное обстоятельство: Розанов ни строчкой не обмолвился о семейной теме у Льва Толстого. Вернее, строчки были, но текстов или хотя бы осмысленных абзацев на эту тему Розанов не публикует. Он утверждает: «Толстой бесконечно дорог суммою своих писаний, где он дал быт семьи, психологию семьи и, в частности, где он никогда не обегал, как щекотливости, тем рождения и беременности, кроме зачатия, которое он почему-то отделяет от рождения»{274} — и не развивает ни один из этих тезисов. Бесконечно ценит гений Толстого, влюблен в свою семейную тему, страдает и кричит в прессе о том, что редко ее видит в прошлом и настоящем русской мысли, и… совершенно молчит о Толстом с его «Анной Карениной», «Воскресением», «Крейцеровой сонатой», «Отцом Сергием».
И только в одном случае язык «прорезывается», когда слышит из уст Владимира Ивановича Немировича-Данченко счастливо обнаруженную после смерти Толстого пьесу «Живой труп»: «Толстой вынудился сказать за развод слово такой яркости, такой убедительности и невозражаемости, какого решительно ни одному писателю не удавалось сказать» {275}.
Разгадать эту загадку нелегко, — по крайней мере, не легче, чем Розанову было догадаться, почему же талантливо написанная и столь необходимая для общества пьеса была Львом Толстым в течение целого десятилетия укрыта от посторонних глаз. Пьесу ждали к постановке два театра — Художественный и Малый, но Толстой предпочел никому не сообщать о ходе работы над текстом. Причины «сокрытия» текста интересуют Розанова в первую очередь потому, что, видимо, здесь и кроется причина их глубоких расхождений в «семейном вопросе». Еще в начале века Розанов позволял себе в прессе называть Толстого на «ты» и неистово воевать с ним через печатное слово. А здесь, в последние годы жизни Толстого, Розанов, похоже, отказывает себе в радости боевого спора со «всемирным моральным авторитетом».
Показательна последняя книга Льва Толстого «Путь жизни», изданная так же, как и «Живой труп», посмертно, в 1911 году. В толстовском цитатнике «на каждый день» глава «Брак» является частью параграфа под названием «Половая похоть»! Здесь Толстой уже разочарован в том, чем так очарован Розанов: в необходимости продолжения рода. Брак — одна из основных преград к достижению целомудрия, а воля к деторождению, по Толстому, — «головное», но ничтожное оправдание половой похоти. «Брак — есть посредственное служение Богу — служение Богу через детей» {276}, то есть желание перепоручить следующему поколению нереализованную волю родителей к целомудрию, сбросить всю ответственность за собственное спасение на потомство. Рождение детей — ни в коей мере не добродетель, а насильственное «оттягивание» дня Апокалипсиса, ибо сказано, что люди станут как ангелы, когда род человеческий прекратится. И если уж жениться, то тогда всеми силами стремиться обуздать половую страсть, а если уж требуется завести детей, то лучше это делать, пишет Лев Толстой, лишая себя всякого чувственного наслаждения.
Розанов бесконечно благодарен Льву Толстому, что он — наперекор своему веку — заставил Россию и весь мир думать о семье и собою, своим мировым именем, привлек всеобщее внимание к проблемам Пола, открыл дискуссию. Вспомним, как смеялась «демократическая» литература в лице Николая Некрасова над автором «Анны Карениной», поставившим узкосемейные вопросы выше общественных настроений эпохи:
Толстой, ты доказал с терпеньем и талантом,
Что женщине не следует «гулять»
Ни с камер-юнкером, ни с флигель-адъютантом,
Когда она жена и мать{277}.
Льву Толстому хватило сил почти в одиночку противостоять эпохе позитивизма и даже перевести литературное движение на иные рельсы. Любопытно следить, как размежевываются пути учителя и ученика, Толстого и его младшего современника Василия Розанова: Толстой в конце жизни приходит к яростному отрицанию того, что Розанов с не меньшей неистовостью в конце жизни защищает. И в обоих случаях, как можно заметить, вопрос о деторождении становится краеугольным камнем «семейного вопроса», его «материальной» основой, порождая, в случае Розанова, утопические мечты о «золотых корзинах», а в случае с Толстым — курьезные утверждения о совокуплении без наслаждения.
Пьеса «Живой труп» будет опубликована в газете «Русское слово» в день премьеры в Художественном театре, а пятью месяцами раньше — 28 апреля 1911 года — в той же газете Розанов знакомит читателя с пьесой путем ее аналитического пересказа. В те дни МХТ в очередной раз гастролирует в Петербурге, и Немирович-Данченко устраивает одну из нескольких публичных читок «Трупа» — перед петербургской интеллигенцией в доме Николая Остен-Дризена.