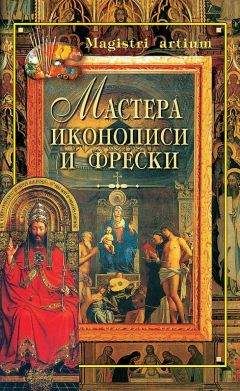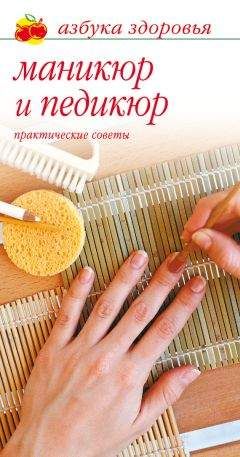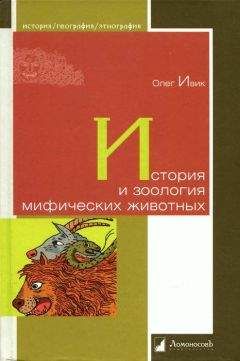Майя Туровская - Бабанова. Легенда и биография
{84} «В режчасть Театра им. Вс. Мейерхольда
Заявление
Начиная с генеральной репетиции до настоящего времени сцена повешения… регулярно срывается вследствие световых накладок…
Считая эту сцену 7‑го звена очень важной, определяющей успех спектакля и учитывая, что мои слова и возмущения против допускающих эту накладку вызывают только глупые улыбки… прошу установить… строгие взыскания в форме понижения в разрядах…
… Прошу рассмотреть в срочном порядке.
В. Федоров
26 / I‑26 10 ч. 50 м.»[60].
Впрочем, как выяснилось впоследствии, Федоров жаловался не только на глупые улыбки осветителей — он был недоволен самим Мастером. Распря зашла далеко, и он печатно обвинил Мейерхольда в присвоении его работы.
Дело дошло до судебного разбирательства. «Афиша ТИМ» — небольшой, но воинственный журнал, издаваемый театром, — ответила ему. Бабановой и этого показалось мало, и она отважно, как всегда, бросилась на защиту Мейерхольда.
«Письмо в редакцию
Уважаемый товарищ редактор!
В журнале “Жизнь искусства” (№ 34 от 24 августа 1926 года) имеется письмо В. Федорова под заглавием “Ответ на привет”. Мнение работников Театра им. В. Мейерхольда в достаточной мере было высказано… но по пункту № 5 ответа В. Федорова я, как исполнительница роли боя, не могу не выразить свой протест.
… Утверждаю, что все, что было создано из роли, очень незначительной по словесному и действенному материалу… все было создано Вс. Эм. Мейерхольдом»[61]
Увы, счастливое мгновение миновало, и никакие свидетельства преданности не могли остановить стремительно наступающей развязки.
Маленькая роль боя, имевшая огромный резонанс, обнаружила в Бабановой слишком большую актрису, чтобы ее можно было убрать на второй план.
Развязка случилась после «Ревизора», который мог бы стать одним из самых счастливых событий в жизни Бабановой, вернув ее в родное лоно русской классики. Но он стал горестным переломом судьбы…
Еще за кулисами ТИМа доживал «Театральный Октябрь». Еще «Афиша ТИМ» печатала «Наказ красноармейцев Всеволоду Мейерхольду», который кончался словами:
«Да здравствует Революционный театр.
Да здравствуют проводники его идей на местах.
Да здравствует его вождь — почетный красноармеец Отдельного Московского Стрелкового полка Всеволод Мейерхольд»[62]
Еще каждый актер ТИМа «пребывал» в качестве «практикума» в ячейке МОПРа, ячейке шефства над деревней, ячейке «Друг детей», ячейке «Руки прочь от Китая», ячейке Авиахима[63]
{85} Но уже противостояние театральных фронтов, по наблюдению критиков наиболее проницательных (сошлюсь на П. А. Маркова), становилось условностью. Бывшие «левые» и бывшие «аки», как в фигурах кадрили, обменивались опытом. Каприз театрального календаря, столкнувший премьеры «Горячего сердца» и «Рычи, Китай!», только на первый взгляд являл антитезу. Мейерхольда тянуло к реализму.
Театр уже отпраздновал свое пятилетие и получил титул Государственного — это хотя бы отчасти облегчало его финансовые обстоятельства, очень нелегкие, особенно если учесть бесплатные и льготные билеты, которые он предоставлял «организованному» — красноармейскому и пролетарскому — зрителю.
Уже был сыгран «Мандат» Эрдмана — один из лучших спектаклей ТИМа.
Полузагадочный «Бубус» объяснялся задним числом: легкомысленная комедия Файко оказалась пробой труппы перед «Ревизором». Был опробован в первом приближении скелет сцены: полукружие, отделяющее игровую площадку, ограниченную каймой ковра. Были изучены и отброшены возможности «предыгры», но мимическая игра на медленном темпе пригодилась. Было прикинуто главное: игра на музыке. В «Ревизоре» она должна была стать еще и игрой по законам музыки — «музыкальным реализмом».
{86} Многое, что породило невиданный размах дискуссий о «Ревизоре» — обвинения в «мистицизме» и оправдания «материализмом», поэтические описания и нахрапистые наскоки, — было на самом деле следствием технических, даже технологических соображений Мастера.
Мейерхольд был практическим человеком театра, навсегда признавшим власть условности, но пиетета перед той или иной исторически сложившейся условностью у него не было. Монолог, например, казался ему устарелой формой, и еще в «Доходном месте» он пытался преодолеть его косность. В «Ревизоре» он решился дать гоголевским персонажам собеседников, чтобы избежать монологов. Из зрительного зала все эти «немые» фигуры, отысканные где-то в закоулках сочинений Гоголя или даже между строк текста, смотрелись двойниками, отражениями, карикатурами героев. Чтобы освободить громаду гоголевского текста от отягчающего груза переходов по сценической площадке, Мейерхольд воспользовался вновь народившейся условностью «крупного плана» кино. В развитие идей «Бубуса» он еще более ограничил игровую площадку: изобрел движущиеся фурки, на малом пространстве которых разместил все эпизоды «Ревизора». Из зрительного зала эта своеобразная техника выездных площадок на фоне глухого полукружия полированных дверей красного дерева и нависающего над ними грязно-зеленого суконного свода приобретала символические очертания: «Обстание, фон, сценка — весь Гоголь, соединяющий вкатную сценку быта, освещенную мороком фона на ночи России», — как напишет потом Андрей Белый[64]
Можно разглядеть частные, почти житейские мотивы и в решении главных фигур спектакля. Хлестаков только что был сыгран незабываемо Михаилом Чеховым, и тягаться с ним вряд ли кто мог во всей России, а в ТИМе его должен был играть совсем молодой Эраст Гарин, только что отличившийся в «Мандате». Надо было помочь актеру режиссерски. Мейерхольд обратился в поисках мотивов к «Игрокам» — весь Гоголь постепенно втягивался в орбиту спектакля — и сделал его чем-то вроде шулера, обдумывающего возможную аферу. Хлестаков дробился и распадался на ракурсы, как на кубистическом портрете.
Наконец, стремление выдвинуть Райх в центр спектакля способствовало преображению провинции в столицу, решению «найти скотинство в изящном облике брюлловской натуры»[65]. Понадобилось вспомнить и «Мертвые души» с пышным цветником губернских дам, увивающихся вокруг Чичикова, и тайный ужас Гоголя перед суетным женским соблазном. Захолустье приобретало петербургский, столичный пошиб, разрастаясь до николаевской России, да, пожалуй, и побольше: до общечеловеческих страстей.
Разумеется, все это были лишь частные поводы для могучей фантазии Мейерхольда, для выражения подспудной трагедийности его мироощущения.
Из решения суммы технологических задач восставала громада — видение мейерхольдовского «Ревизора» — смешной и мучительный трагифарс российской судьбы.
Театр — искусство грубое, в закулисных соображениях его гораздо больше простой технологии, чем может показаться; немало и пошло-житейского отлагается в нем. Но не так ли груба и сама жизнь, где часто поводы случайные и незначащие запускают механизм событий исторических? Так и театр — из утилитарных нужд, из домашних обстоятельств, а на самом деле из жизненного опыта своих творцов, из потребностей времени, из опыта исторического силой {87} таланта он творит свои чудеса. «Боже, как грустна наша Россия!» — Мейерхольд пестовал это пушкинское восклицание, вырвавшееся после чтения «Мертвых душ» Гоголем. Со времен «Маскарада», завершившего собою судьбу императорской России, он не создавал ничего столь объемлющего, обдуманного и личного, как «Ревизор».
Поистине он мог называться «автором спектакля», как будет написано в программе: «проект вещественного оформления, mise en scиne, биографии персонажей, построение новых фигур, речь, акцентировки, ритм, размещение музыкального материала, свет, немая сцена» — все было извлечено им из громадной фантазии и опыта, который не мог уже создать зрелища столь безмятежного, как «Великодушный рогоносец» 1922 года.
Никогда еще на памяти Бабановой не предпринимал Мастер такой широкой и всесторонней теоретической подготовки к спектаклю. О том, чтобы просто развести мизансцены, предоставив актеров тексту, как в «Доходном месте», речи не было. Отказ от «масок» театра в пользу «биографической структуры людей»; подлинность стиля, утрированная «сквозь призму столичной жизни»; «крупный план» выездных площадок, требующий от актера скупости и четкости игры; возвращение к реализму через стихию музыки — «музыкальный реализм», подчиняющий действие закону ритма; самоограничение актера в пользу общей партитуры спектакля — все это требовало от исполнителей дисциплины, умения, труда, таланта.
«Мы сейчас из полосы ученичества переходим в полосу мастерства», — сказал Мейерхольд, приступая к работе[66]. Он отдавал себе отчет, что не все актеры (потом оказалось — немногие) к этому готовы. Приходилось довольствоваться «ускоренным выпуском». Театр не мог больше задерживаться на учебных и агитационных задачах.