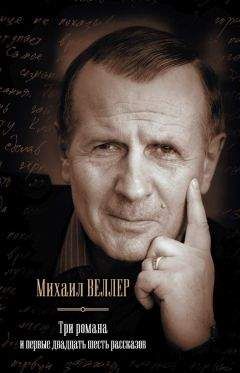Михаил Левитин - Таиров
И он начинал рассказывать об интереснейшем приеме, предложенном Мейерхольдом на репетиции, и о перехваченном взгляде Федора Федоровича, заметившего, что тот увлечен.
— А посоветоваться нельзя? — спросила она. — С тем же Блоком, с Кузминым?
— С поэтами нельзя советоваться, они все видят последними, они в эйфории от успехов, от того, что у них получилось. Нет, Оленька, нужно уходить.
— Куда?
— Куда угодно. Вот Гайдебуров к себе приглашает, в Передвижной театр, дело, конечно, скромное, но репутация надежная. К тому же предлагает самому начать ставить.
— Как ставить? А ты хочешь?
— В том-то и дело, Оленька, кажется, хочу. Но, глядя на всю эту возню, страшно и подумать.
Она опустила глаза и задумалась. Так глубоко задумалась, что даже Мурочка, до тех пор прислушиваясь в углу к разговору родителей, сморщила мордочку, чтобы заныть и напомнить о себе.
— Поставь «Гамлета», — сказала Ольга Яковлевна. — У тебя получится.
Он засмеялся:
— Так сразу и «Гамлета»? Почему?
— Поставь «Гамлета», — повторила она. — Ты и так много времени потерял.
* * *— Вы Москву любите? — спросил Павел Павлович Гайдебуров и, не дожидаясь ответа, продолжил: — Я очень, у меня в Москве друзья. Почему в столице всегда чувствуешь себя, как в ссылке? Это еще от Пушкина, да?
Ему хотелось разговора, большого содержательного разговора. Этот молодой человек все больше располагал к откровенности, хотя сам все больше молчал. Открытое лицо, симпатичный, весь какой-то крепкий, убедительный. Глядя на него, Гайдебуров в попытке скрыть свою постоянную озабоченность даже провел по лицу ладонью.
«Выудит из меня, старого дурака, всё, что хочет, и откажется, — подумал Гайдебуров. — Ну и бог с ним».
В ожидании отказа он даже обиделся на собеседника.
— У нас хорошо работать, — сказал Гайдебуров. — Если вы человек непривередливый… Как думаете, вы непривередливый человек?
— Позвольте мне уклониться от ответа, — сказал Таиров. — Тем более что и вы сами сейчас не говорите мне всей правды.
— Наши спектакли вам нравятся? — прямо спросил Гайдебуров. — После всех этих экспериментов на Офицерской?
— После экспериментов — да, — улыбнулся Таиров. — Вепсами по себе, по-разному.
— Спектакли как люди, — сказал Гайдебуров. — По мейерхольдовским сразу видно — немец.
— Каким образом?
— Расчет, прежде всего расчет. И обескровленность. Неплохо бы почувствовать, на чьей он стороне, а не только картинку видеть.
— Вы имеете в виду актеров?
— О, Господи, какие у Веры Федоровны актеры, кроме нее самой? И правильно. Зачем они рядом с ней нужны?
«С чего он так мучается? — подумал Таиров. — Мы говорим полдня, а он все еще главного не сказал. Да есть ли у него вообще это главное?»
— Вы, случайно, не социалист? — спросил Гайдебуров.
— Почему вы спросили?
— Сейчас все студенты — социалисты. Я своих из театра погнал. Да, мы играем для рабочих, но пользоваться театром для любой агитации я считаю нечестным, графиня — тоже.
— Нет, — сказал Таиров. — Я не социалист, хотя в манифестациях участвовал. Я скорее сочувствующий. Вы ведь играете для рабочих, значит, вникли в их настроение.
— Молодой человек, — сказал Гайдебуров. — Я не в настроения их вникаю, а все больше в Островского, в Пушкина, мне этого на всю жизнь хватит, а рабочие, чем глубже вникну, тем более будут мне благодарны.
Саше показалось, что он скорее не понравился Павлу Павловичу, чем понравился. Что-то их друг в друге не устраивало. Можно было сознаться в этом сразу и разойтись. Но, во-первых, Гайдебурову нужен был молодой артист, такой, как Саша, — интеллигентный, эффектный, на роли резонеров, кто-то же должен был на сцене понимать, что произносит, во-вторых, Сашу устраивал список ролей, предложенных Гайдебуровым даже чрезмерно щедро, в-третьих, Гайдебурову не могло не польстить, что к нему переходит артист из театра Комиссаржевской, родной сестры его жены, в-четвертых, Таирову по горло осточертело ждать полного разрыва между Мейерхольдом и Комиссаржевской, и особенно необходимости выбирать, с кем он останется — он не остается, он уходит. В-пятых, в-седьмых, в-девятых… Но это уже не важно. Денег Гайдебуров платил не больше, чем у Комиссаржевской, зато обещал три постановки в сезон за отдельное вознаграждение.
— Я ставлю всё сам, — сказал Гайдебуров. — Редко кому доверяю. Ставлю, играю, администрирую. Честно говоря, мне очень важно, чтобы Надежде Федоровне было хорошо в театре, и вообще, чтобы ей было хорошо. Вы меня понимаете?
— Конечно, — сказал Таиров, но рассыпаться в комплиментах младшей Комиссаржевской, по сцене Скарской, не стал, боясь, что его переход к Гайдебурову приобретет черты некой двусмысленности. Он даже удивился откровенности Павла Павловича. Возможно, это была откровенность человека, который говорит о главном прежде, чем его спросят.
А главным была та самая история между сестрами, то самое горе, что заставило Веру Федоровну, к счастью для зрителей, полностью посвятить себя сцене, а Надежде Федоровне понять, что она тоже актриса и неплохая.
Замешался в жизнь сестер некий граф, он же офицер, он же талантливый художник, — самодур и мерзавец. Женился на Вере Федоровне, вскоре соблазнил ее сестру, заставив этих близких друг другу людей бесконечно страдать, а когда Комиссаржевская ушла, женился на совсем юной этой самой ее сестре, тоже мучил ее изменами и угрозами, и все это, воплотившись в образе первой любви, которая была так важна им обеим, грозило полным разрывом между сестрами, если бы не самообладание и мудрость Веры Федоровны и бесконечное внимание к ситуации вот этого самого Павла Павловича Гайдебурова, ставшего позже мужем Скарской.
Этот человек воспринимал жизнь как роман со всеми его отступлениями и неожиданными поворотами сюжета, ничто из того, что предлагала жизнь, не могло оттолкнуть его, если оставалось в рамках реально допустимого. Он считал себя, как потом понял Таиров, главным героем этого самого романа жизни, причем, безусловно, благородным героем, сошедшим на землю, чтобы помочь другим.
Не отсутствие таланта заставило его стать миссионером в театре, организовать Передвижной театр для рабочих, малорентабельный, скромный, а все та же мысль — кто, если не я. Он был достаточно талантлив, чтобы к нему проявляли внимание и сама Комиссаржевская, и Станиславский, и другие художественники, считавшие, что они делают с ним общее дело.
Где-то в глубине души он понимал, что, женившись на Скарской, приобрел репутацию доброго человека и страдальца, но старался не думать об этом, действительно питая к своей несчастной жене настоящее чувство.
И Гайдебуров, и Скарская, несмотря на бурную деятельность, были по-своему одиноки. Никто по-настоящему не был заинтересован в развитии их театрального проекта. Одобряли многие, но к спектаклям относились равнодушно, просто не приходили. Они были где-то на периферии общественного сознания, и это изгойство, одиночество особенно сблизили их.
Таиров, или такие, как он, если подобное возможно, нужен был им для компании, он как бы подсел к огоньку, что было очень кстати — собеседников не хватало. А если еще и пользу принесет…
«Особо с ним не поговоришь, — подумал словоохотливый Гайдебуров. — При всей открытости, абсолютно скрытен. Но слушать умеет. Ишь, как слушает, выудит из кого угодно что угодно. А как дистанцию держит! С таким не соскучишься. Ладно, друзей у него хороших много, будут ходить в театр».
— А как с учебой? — спросил он Таирова. — Вы, наверное, уже сто лет студент, пора завершать образование, а то мы все время разъезжаем и разъезжаем. Меня самого выперли с четвертого курса. Решил не восстанавливаться. А вы думаете, доучитесь?
— Я доучусь, — сказал Таиров. — Я отцу обещал.
— Как ваша настоящая фамилия?
— Коренблит.
— Вы иудейского вероисповедания?
— Я еврей.
— Неприятностей с полицией не было? Выслать из Петербурга не могут? Непростой вопрос, я понимаю.
— Могут.
— Как же…
Гайдебуров растерялся, расставаться с Таировым при первой же встрече не входило в его планы.
— А я крещусь, — сказал Таиров. — Меня и жена на это благословила.
— Как Мейерхольд, — обрадовался Гайдебуров, — в православие?
— А Мейерхольд православный? — удивился Таиров. — Он же немец, лютеранин.
— А крестился, как видите, в православие. Я от самой Веры Федоровны знаю.
— Ну, тогда, — безмятежно сказал Таиров, — если Мейерхольд в православие, я в лютеране.
— Почему? — опешил Гайдебуров.
— Чтобы восстановить равновесие, — сказал Таиров. — Шучу, конечно. Есть свои соображения.
Соображений у него никаких не было, только одно — как объяснить отцу и маме свое решение? Они поймут, конечно, но больно им будет. В конце концов, он всегда был хорошим сыном и плохим иудеем, а проблему все равно надо было решать.
![Лидия Кудрявцева - Этот ребенок - я сам[статья]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)