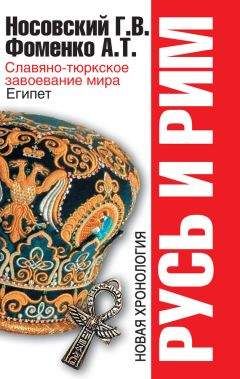Наталья Крымова - Владимир Яхонтов
Еще не один раз я приду на Клементовский. Прежде чем войти в подъезд и подняться на шестой этаж, обойду дом, теперь как бы переменивший свое местоположение. Там, где был двор, — теперь улица и трамвайные рельсы. Вплотную пристроено новое здание Радиокомитета. Остался, каким был, внутренний двор-колодец, только вместо земли — асфальт.
Я принесу одинокой и больной женщине кое-какие продукты и пачки «Беломора». В прокуренной комнате сяду спиной к окну, выходящему во двор-колодец, за стол, на котором всегда лежит свежий номер «Правды», и опять буду слушать.
Мне будут еще раз повторены слова, что Яхонтов актер-трибун, и я соглашусь с этим, потому что это правда. На меня испытующе будут смотреть выцветшие старческие глаза. А с фотографии, висящей над столом, — строгое девичье лицо культработника 20-х годов. Широкие скулы молодой казачки, упрямо сжатые губы, свободный поворот шеи, выступающей из матросского кроя воротника. Весь облик очерчен одной линией, простой и твердой.
Дружба с этой женщиной не случайна, немногих друзей Яхонтов и Попова имели. Яхонтов-художник восхищался такими людьми, иногда как бы предоставлял им слово в своих спектаклях, говорил от их имени. Но сам он не нес в себе ни этой цельности, ни этой жесткой воли. «Мы тогда как-то отдалились…» Это было неизбежно.
Но многое он сохранил в себе с поры их общей юности. Например, бескорыстие, равнодушие к тому, что называется бытовым благополучием. Приобретение тех или иных удобств с годами стало делом естественным. Яхонтов не приобрел ничего. Даже моя собеседница считает это «богемой». «У них не было быта. И он и Лиля считали это ненужным». Это говорится осуждающе.
Они так и не приобрели, например, отдельной квартиры. Яхонтов с удовольствием читал со сцены «Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру», но сам так и не узнал, что такое собственный кабинет или своя ванная.
Люди театра, как известно, иногда театрализуют формы своего быта. Прошло время революционного аскетизма, и Мейерхольд снял гимнастерку и обмотки, надел хороший костюм, шубу с бобровым воротником. Любимый Яхонтовым поэт, искренно писавший, что «кроме свежевымытой сорочки» ему ничего не надо, с удовольствием покупал за границей прочную обувь, которой у нас еще не было, и шутливо извинялся, что привез из Парижа «Рено», а не галстук. Так было уже к 30-му году.
А Яхонтов все твердил строчки бездомного Хлебникова:
Мне много ль надо? Коврига хлеба
И капля молока.
Да это небо,
Да эти облака!
Из письма Лили Поповой к сестре:
«Мы в Москве в бытовом отношении очень тяжело живем. Знаешь ли ты художника Боттичелли? Я его очень люблю. Если не знаешь, я пришлю тебе книгу с его работами, мне подарил Яхонтов…»
Даже шитье концертного смокинга всегда было проблемой — шили, разумеется, у лучшего портного, но, как правило, в долг, под чье-то поручительство.
Как в 1922 году не было своего дома, так его не было фактически никогда. Говорят, он скучал по домашним пирожкам и любил гостеприимные дома. Наверно, это так. Лиля Попова не умела печь пирожков. В 1944 году комнату на Клементовском обменяли на Никитский бульвар — так, что нелепее трудно себе представить: пол ниже уровня земли, сырые стены, отопление не налажено. Новое жилище перегородили на две половины — в двух комнатах и был смысл обмена.
Вернувшись из гастрольной поездки и войдя в свою новую квартиру, Яхонтов не выразил удивления. Это не касалось его работы, а значит, вообще касалось мало.
* * *Осень 1924 года они провели, бродя по Северному Кавказу. С момента, когда они попали в Минеральные воды, где жил отец Лили, потомственный железнодорожник Ефим Филиппович Попов, — с этого момента география страны для Яхонтова видоизменилась, расширилась, а вместе с ней изменилось представление о том, как и чем живут вокруг люди. Подглавки книги Яхонтова, относящиеся к этому моменту, называются: «Стекольный завод», «Пролетарская воля» (название сельскохозяйственной коммуны), «Грозный». Добавить к этому надо было бы: «Депо», «Нефтяные промыслы».
«Нет ни Москвы, ни памятников, ни театров, ни музеев. Есть депо, гора Змейка, клуб, библиотека. И есть люди».
Если достопримечательности Москвы со знанием дела показывал Лиле Яхонтов, то здесь проводником и вожатым стала она. Она выросла в семье, уклад которой определялся строгим порядком отцовской работы. Паровозные гудки она привыкла слушать так, как слушают их женщины, чьи мужья водят поезда. Она знала по именам гайки в паровозе, значение осей в составе и инерции на уклонах. В Москве можно было подумать, что эта девочка ничего не знает, но у нее были свои знания — о людях и их труде.
Судя по всему, Лиля Попова была хорошим проводником — вела, куда нужно, слова произносила самые необходимые. И семья ее отнеслась к приезжему юноше с пониманием и тактом. Сестра Лили Ольга, комсомолка, работавшая в депо, повела туда Яхонтова, и от рабочих он услышал просьбу «почитать». Ефим Филиппович Попов смастерил ширмы, в которых Яхонтов разыгрывал (уже один) «Снегурочку» и (тоже один!) «Принцессу Турандот». Ефим Филиппович дал Яхонтову первое в его жизни рекомендательное письмо — в Грозный, к знакомому рабочему Бондаренко. Это были не «от Станиславского к Вахтангову», не «от Вахтангова к Мейерхольду», а совсем другие — вне театральных кругов — пути и рекомендации. Яхонтов впервые узнал им цену.
Рабочие просят «московского артиста» устроить в клубе вечер. Что читать? Он впервые по-новому задумался о своем репертуаре. После каждого концерта — часы раздумий. «Графа Нулина» читать не надо… «Борис Годунов» нравится, но спрашивают, что дальше? «Моцарту и Сальери» почему-то мало аплодируют, хотя слушают тихо…
Он смотрел, как и чем живут люди, которых не знал, не видел ни в Нижнем, ни в Москве, — рабочие, которые, как Ефим Филиппович, уже никогда не отмоют рук от машинного масла; для этих людей гудок паровоза — особый, полный смысла и значения знак. Старый дед Лили, механик, чинит часы. Он берет их, и грубые руки становятся чуткими и ловкими, как руки матери. Мастер внимательно прислушивается к тиканью и говорит удовлетворенно: «Поют!» Или, как о детях: «Шалят». «Масло часам нужно давать только нюхать». Эту заповедь старого механика нельзя было не запомнить.
Столичный юноша ничуть не стеснялся рабочих людей и не стеснял их — они занимались своим делом, он, глядя на них, — своим. Он обладал редкостным тактом и, вспоминает Попова, «так бесхитростно, так правильно вел себя в совершенно новой для него обстановке». «Я слушал и слушал свою аудиторию». Это точно переданное самочувствие, которое в Грозном Яхонтову не изменило и благодаря которому он сделал первый свой совершенно самостоятельный — общественный — шаг в искусстве.
Он понял быстро: читать можно многое — будет нравиться. Но обычное актерское «нравится» оказалось каким-то мелким перед аудиторией, про которую он сказал: «Есть люди. И кажется, что они чего-то ждут».
«Я был в ту пору весь — напряжение, весь — внимание… Я был как бы под прессом огромного давления… Прямого задания я не получал… Я понимал, что задание существует, носится в воздухе, что наконец я его вот-вот возьму в руку…».
Железнодорожники и нефтяники мерно работали, приводя в порядок разрушенное гражданской войной хозяйство. Всего полгода прошло, как умер Ленин. Горе еще носили в сердце, как живую и острую боль. Эта боль объединяла, хотя о ней нечасто говорили. Радио еще не было. Главным источником информации была газета: в ней — правда, в ней — просвещение.
И Яхонтов, оглядевшись вокруг, по-новому взял в руки газету. Газетные штампы если и были, то какие-то безыскусные, они не заслоняли живой мысли. Слова были простыми, человеческими. И горе смерти Ленина выражалось в них прямо и просто. Газеты 1924 года и сегодня трудно читать без волнения.
Когда слышишь: «Яхонтов исполнял газетный текст как художественную литературу» или «Яхонтов умел придать документу эстетический смысл», чувствуешь необходимость небольшого дополнения по части хронологии: Яхонтов начал читать газетный текст в 1924 году. Потенциальную эстетическую ценность документальной правды он увидел в газетных материалах середины 20-х годов.
«Я взял нужную мне сумму честных, искренних слов…» — очень просто! Но оказалось — очень важно. Художник будто предчувствовал, что рождающийся жанр требует только честных слов. Этот жанр умирает, если документальность мнима. Опасность мнимого стала проясняться позже, а в 20-х годах Яхонтов безошибочно прокладывал именно то русло, в котором монтаж документов только и может существовать как основа жанра. И сами документы и мысль, рождающаяся при их сопоставлении, не должны содержать фальши. Сохранить это решающее условие оказалось со временем непростым делом.